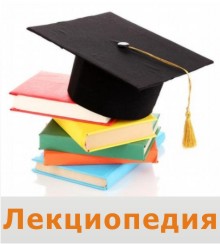
Главная страница Случайная лекция

Мы поможем в написании ваших работ!
Порталы:
БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика

Мы поможем в написании ваших работ!
Кто из богов мне возвратил?»
В переложении оды к Помпею Bapy (Carm . II, 7) соблюдена последовательность мысли (нечаянная радость встречи, память о битве при Филиппах, приглашение к пиру), в стиле много горацианских черт, русификации нет, однако смысловые отступления от оригинала весьма значительны, что не раз уже отмечалось[7]: действительно, у Горация нет ни «призрака свободы», ни «отчаянного Брута», ни панического страха перед лицом неминуемой гибели, а брошенный щит – распространенный мотив античной лирики, начиная с Архилоха. У древних характер боя был таков, что любой уцелевший воин побежденной армии мог считаться клятвопреступником, ибо присяга воспрещала покидать место в строю, – жив и Помпей, а значит, ушел с поля боя[8]. Что до Меркурия, у Горация он ассоциируется, а то и отождествляется с Августом (см., например, Carm. I, 2), поэтому в воспоминании о битве можно услышать намек на его доброжелательность сначала к поэту, а затем к Помпею и другим амнистированным: амнистия 29 г. до н. э. была объявлена Августом, так что он и есть тот бог, который помог встрече друзей и на которого указывает риторический вопрос.
Вообще говоря, почти все сведения и все дурные отзывы о Горации так или иначе восходят к его же произведениям, в частности, к сатирам, где он, отвечая на недоброжелательные о себе суждения, прежде эти суждения воспроизводит. В Риме того времени поэтов было много, и по причинам, которые излишне объяснять, литературная элита не пользовалась расположением литературной черни, попрекавшей друзей Мецената всем, чем можно попрекнуть, – и Горация, конечно, попрекали и отцом отпущенником, и Брутом, и Меценатом, и относительным благосостоянием. Правда, первая книга сатир, откуда нам известна большая часть этих попреков, писалась, когда Горацию не было тридцати, то есть за несколько лет до битвы при Акции, когда гражданская война еще продолжалась и будущее государства оставалось не вполне определенным[9]. Гораций изображал завистников смешными, в таком виде их увековечил, и предъявить ему сходные претензии значило бы стать на сторону персонажа сатиры против ее автора, на что долго никто не решался. Однако век Просвещения с его просвещенными самодержцами оживил неприязнь к придворной (или казавшейся таковой) поэзии, а заодно досталось и Горацию – будто и он то ли жил на хлебах у Фридриха Великого, толи получал чины и земли от Екатерины.
В превосходной статье В. М. Файбисовича эта тема рассмотрена подробно, и здесь достаточно напомнить, что Радищев ругает Горация «лизорука Меценатова», а Белинский в совсем другую эпоху, однако в русле той же традиции не стесняется попрекать поэта его низким происхождением. После Радищева, но прежде Белинского, А. Тучков включил в свои «Сочинения и переводы» (Ч.1. СПб., 1816) и перевод оды II, 7 с выражениями вроде «ужасный день» и «меня, трепещуща средь бою», объяснив в комментарии: «Гораций смеется над своею трусостию», – а в «Повести из римской жизни» ода к Помпею сопровождается известным: «Хитрый стихотворец хотел рассмешить своей трусостью Августа» (VIII, 390), и это опять восходит к Тучкову[10]. Так как впервые о трусости Горация Пушкин говорит в 1817 году (I, 251), после выхода книги Тучкова, это дает все основания предполагать влияние старого генерала на молодого поэта до их личного знакомства в 1821 году, когда они были членами одной и той же масонской ложи в Кишиневе[11].
В поэзии и личности Горация не было ничего романтического – недаром Байрон его не любил (XII, 378), мало было в нем и стойкой непреклонности, одной из главных хрестоматийных добродетелей хрестоматийных римлян, всегда, впрочем, ценившейся и историческими римлянами и бывшей неизменным поводом для общего уважения к Бруту. Поэтому доверие Пушкина к мнению Тучкова естественно, но невозможно не отметить, что на протяжении двадцати лет (1816–1835) никакого другого мнения Пушкин не имел и в «Повести из римской жизни» продолжал слово в слово пересказывать Тучкова, а в переложении оды очевидным образом опирался на его перевод. Такая неизменность не только мысли, но и ее (во многом заимствованного) словесного выражения может свидетельствовать лишь об отсутствии серьезного интереса к предмету – ода Горация запомнилась Пушкину в той интерпретации, которую он узнал в ранней юности из книги Тучкова, и даже потребность сделать собственное переложение не побудила его к какому‑либо переосмыслению этой интерпретации. Как верно отмечает В. М. Файбисович, Гораций казался Пушкину чем‑то вроде Вольтера Августова века, а Вольтером он, разумеется, интересовался и относился к нему весьма критически. Остается добавить, что найти в Горации хоть какое‑то сходство с Вольтером может лишь тот, кому по крайней мере один из этих авторов неинтересен и/или малознаком.
О rus»
В сатире II, 6 Гораций описывает преимущества сельской жизни перед жизнью в Риме, и ст. 60 начинается словами: «О rus, quando ego te adspiciam?» («Когда увижу тебя, деревня?»), хотя перевод «деревня» тут довольно условный, – латинское rus это также и «поместье», «пашня», «поле», вообще все, относящееся к сельской местности в ее противоположности городу (ср. английское country). Эпиграф «о rus!» ироничен вдвойне: цитата укорочена до одного слова и все‑таки сноской «Hor.» сохранена в статусе цитаты (как если бы, например, эпиграфом с отсылкой к Пушкину стояло только «Мой дядя»), а вдобавок приводится перевод, и перевод омонимический. Притом как раз в этом случае омонимического перевода можно видеть иронический намек на этимологические изыскания Тредиаковского («О первоначалии россов»).
Возводя нерусские (часто латинские или латинского корня) слова к русским (Britannia – «Пристания», Etrusci – «Хитрушки»), Тредиаковский, по‑сушеству, делает их омонимический перевод, а так как объясняет он таким способом топонимы и этнонимы, выходит, что перевод обнаруживает их исконно предметное значение (это вполне в духе Платонова «Кратила») и сугубо «росское» происхождение. В этих трудах у Тредиаковского было и осталось немало преемников, а вот опыты омонимического перевода, не имеющего в виду доказательство «первоначалия россов», немногочисленны, потому что требуют нерядового поэтического таланта. Однако, для чего бы ни использовался подобный метод, его предпосылкой является отношение к чужому языку как к набору звуков, обретающих смысл лишь на языке переводчика, в данном случае по‑русски. Пушкин делает точно то же самое, но точно наоборот: происхождение топонима Русь всегда привлекало внимание (в частности, Карамзина), но оставалось и остается спорным и с латинским rus , разумеется, не связано, – зато если воспользоваться омонимическим методом Тредиаковского, памятуя о том, что Россия до сравнительно недавнего времени справедливо воспринималась как страна по преимуществу сельская, обыгранное Пушкиным созвучие отличается от обыгрывания «Британии‑Пристании» только тем, что нарицательным смыслом обладает не русское, а латинское слово. Итог (двуязычный эпиграф) при кажущейся простоте наделен тем полисемантическим изяществом, которое требуется от эпиграфа и которым отличаются немногие удачные образцы этого жанра[12].
Заключение
Известно, что Пушкин обращался к Горацию чаще, чем к другим древним авторам, – под обращениями следует понимать и упоминания, и цитаты, и переводы, законченные или незаконченные. На этом основании и делается общепринятый вывод, что Гораций был Пушкину ближе и интереснее, например, Анакреонта, не говоря уж о Вергилии, – признаться, и работа, результатом которой явились предлагаемые читателю материалы, задумывалась именно для того, чтобы подробнее изучить эту предположительную близость. Анализ текста показал, однако, что общепринятое мнение не имеет под собой никаких фактических оснований. Гораций упоминается либо (чаще) «по Кошанскому» – как школьный классик, либо (реже) «по Тучкову» – как придворный лицемер. Большая часть цитат из Горация, будь она главным свидетельством знакомства Пушкина с этим поэтом, свидетельствовала бы, скорее, о знакомстве с непространным набором расхожих цитат, блуждающих из книги в книгу и почти или полностью утративших связь с источником. Что до переводов, то «Кто из богов» достаточно очевидно ассоциируется с переводом Тучкова, а «Памятник» и вообще трудно назвать переводом из Горация. Если бы мы не знали наверняка, что Пушкин учился латыни и читал Горация, были бы все основания усомниться в том и другом, но в любом случае нет никаких поводов предполагать, что его знания не ограничивались полузабытым лицейским запасом, а обновлялись и углублялись последующим чтением, – никакой текст подобного предположения не подтверждает, зато слишком многие тексты говорят в пользу противоположного предположения.
Откуда же возникло распространенное среди пушкинистов мнение о некой близости Пушкина и Горация? Ведь даже В. М. Файбисович, многое назвавший, наконец, своими именами, начинает статью с традиционного: «В числе любимых авторов Пушкина имя Горация мы находим уже в лицейских стихах 1815 года. С этого момента и до последних дней Пушкин постоянно возвращался к Горацию в своем творчестве»[13], – хотя далее убедительно доказывает, что пушкинское «Кто из богов мне возвратил…» трудно признать примером постоянного обращения к творчеству любимого поэта. Представляется, что это мнение, как и вообще подавляющее большинство общепринятых мнений, основано прежде всего на повседневном социальном опыте, зачастую проецируемом на историю, где тоже есть элита («великие люди»), разделяющаяся на специализированные элиты, в частности, «великих поэтов», которые к тому же почти знакомы между собой, – более поздние обычно знают более ранних и симпатизируют одним больше, другим меньше. В эту элиту входят, конечно, и Гораций, и Байрон, и Пушкин. Вдобавок Пушкин естественно ассоциируется с величайшими национальными поэтами других народов, а стало быть, как кажется, и с Горацием.
Гораций, однако, никогда не числился величайшим римским поэтом, он числился лишь величайшим римским лириком (Квинтиллиан называет его «из всех лириков единственным, кого стоит читать»), не создавшим эпической святыни, которую создал Вергилий, – таким образом, сближение Пушкина как национального поэта с Горацием неправомерно по существу. «Римского Пушкина» гораздо вернее видеть в Вергилии, к которому, впрочем, реальный Пушкин тоже был совершенно равнодушен, хотя порой упоминал и его тоже, а особенно часто в лицейских стихах, порой в тех же перечнях, что и Горация (I, 98), и даже как‑то раз назвал «несравненным» (I, 63).
Но тексты свидетельствуют, что и к Горацию Пушкин был равнодушен, хотя без того налета антипатии, которую явно вызывала в нем неподъемная «Энеида». Всем, читавшим Вергилия и Горация в рамках школьного курса латыни, Гораций кажется ближе и понятнее просто потому, что чтение пусть нескольких од, зато от начала до конца, в эмоциональном и интеллектуальном отношении гораздо удовлетворительнее чтения выбранных по вкусу преподавателя отрывков сложной эпической поэмы (еще удовлетворительнее чтение Катулла, но его авторитет далеко уступает авторитету Горация). К тому же «Энеида» неизбежно ассоциировалась с писанными по ее образцу и в основном неудачными патриотическими поэмами вроде «Россиады», а ода имела в России куда более славное прошлое – можно сказать, что авторитет Горация подтверждался авторитетом Державина, а авторитет Вергилия оставался неподтвержденным, и уже поэтому отсылка к Горацию оказывалась предпочтительнее. Притом престиж одописания и относительно небольшой объем од Горация привлекали великих и невеликих поэтов возможностью испытать себя в переложениях и имитациях, и ко времени Пушкина в латинском разделе русской антологии стихи «из Горация» были так же естественны, как стихи «из Анакреонта» в греческом разделе, и переводческой точности от них не требовалось, а требовалась стилистическая опознаваемость. Связь Пушкина с поэтическими традициями XVIII века не является здесь предметом рассмотрения, но можно во всяком случае утверждать, что весь пушкинский Гораций гораздо определеннее указывает на прочность этой связи, нежели на интерес к творчеству и к жизни Квинта Горация Флакка, нигде у Пушкина не засвидетельствованный.
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Я памятник себе воздвиг» | | | Жизнь и смерть |
Дата добавления: 2014-12-09; просмотров: 291; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!