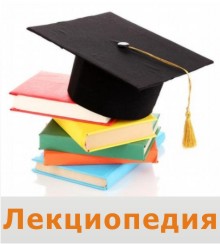
Главная страница Случайная лекция

Мы поможем в написании ваших работ!
Порталы:
БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика

Мы поможем в написании ваших работ!
Безвредная радость
… δι’ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τῶν
τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν
Aristoteles. Poeteca[50]
Толкования трагического катарсиса, упоминаемого Аристотелем в «Поэтике», столь многочисленны, что давно уже сами по себе сделались предметом изучения и классификации[51]. Главной особенностью этих толкований представляется их двойственное отношение к толкуемому тексту, именно к шестой главе «Поэтики», где говорится о катарсисе: с одной стороны, почти все толкователи определенно тяготеют к эмансипации от «Поэтики» и, следовательно, к почти откровенной подмене интерпретации текста Аристотеля собственной концепцией трагедии, а то и не только трагедии; с другой стороны, никто не хочет сделать эту эмансипацию полной и окончательной. Действительно, «Поэтика» конспективна и суховата – толкования, напротив, многословны и часто задушевны (последнее определение звучит не совсем научно, но как еще можно охарактеризовать такое, например, выражение: «это осознание мучительно, смерти подобно…»?). Притом «Поэтика» даже и в нормативных своих разделах всегда обоснована текстами трагедий – толкования, напротив, основываются на единственной фразе «Поэтики», а все прочее используют произвольно, причем как раз трагедии могут не использоваться совсем или использоваться очень ограниченно. Такой подход естественно рассматривать как упомянутое тяготение к эмансипации, то есть к превращению толкования в оригинальный текст, соприкасающийся с «Поэтикой» по касательной – на уровне одной краткой цитаты или даже одного слова. Достигни эта тенденция полного развития, предлагаемый здесь филологический анализ превосходно обошелся бы без обращения к так называемой «истории вопроса», но на деле выходит иначе, и даже самые самостоятельные толкователи до конца с «Поэтикой» не рвут: цитируют знаменитую фразу шестой главы, охотно ссылаются на предпочитаемый Аристотелем миф об Эдипе, охотно используют слово «трагический» – иначе говоря, всячески демонстрируют, что не сочиняют собственную теорию драмы, а толкуют теорию, предложенную в «Поэтике».
Характерный пример – цитированная выше статья в солидном и для своего времени почти радикальном томе «Бессознательное»[52]. Статья эта посвящена психологии познания, то есть вполне соответствует теме и направлению издания, в котором опубликована и которое, коли так, навряд ли имеет отношение к «Поэтике» и ее интерпретациям. Однако автор сначала цитирует ту самую фразу из шестой главы, затем оговаривает, что «при всей своей емкости этот фрагмент не может послужить нам для определения катарсиса уже потому, что нельзя при этом обойти его многочисленные толкования», затем приводит некоторые толкования, а завершает статью определением катарсиса как осознания и словами о «трагическом катарсисе, воплощенном в судьбе Эдипа». И вот, хотя предметом статьи заявлено «расширение границ индивидуального сознания до всеобщего», она оказывается еще и очередным толкованием «Поэтики», а между тем, если вместо «катарсис – это осознание» сказать «назовем осознание катарсисом» и вместо «момент катарсиса – это состояние внутренней упорядоченности» сказать «состояние внутренней упорядоченности возможно определить как момент катарсиса», никакой двусмысленности не возникло бы: из толкуемого термина катарсис превратился бы в собственный термин автора, пусть и позаимствованный у Аристотеля, а все рассуждения о границах познания остались бы на месте, лишившись только необоснованных ассоциаций с «Поэтикой». Однако это не так, и приведенный пример недаром назван характерным.
Возникает впечатление, будто здесь мы сталкиваемся с каким‑то историко‑научным парадоксом: оригинальные исследователи, резко снижая уровень притязаний, выдают себя за толкователей – прямо‑таки в средневековом духе, когда престиж трактата мог определяться и часто определялся престижем толкуемого текста. В новое время такой вторичный престиж обеспечивается (если обеспечивается) только особо значимыми текстами, то есть найти Атлантиду или «потаенную любовь» Пушкина по‑прежнему более привлекательно, чем отыскать, например, какое‑нибудь неолитическое городище или что‑нибудь новое в четырехстопном ямбе. Но относится ли «Поэтика» к числу особо значимых текстов? Вряд ли, как, впрочем, и другие подобные руководства вроде Послания к Писонам («Ars poetica») Горация или «Поэтического искусства» Буало, не говоря уж о менее известных. Все они в большей или меньшей степени нормативны и воспринимаются именно как нормативные, а для далекой от какого бы то ни было классицизма современной культуры это, конечно, неприемлемо – потому‑то все (довольно многочисленные) толкования тех или иных фрагментов «Поэтики» остаются в непросторных пределах классической филологии или, самое большее, теории литературы. Кроме катарсиса. Приходится предположить, что названным сверх‑престижем обладает не «Поэтика», а одна‑единственная ее глава и даже не вся глава, а одна‑единственная фраза этой главы, а именно содержащееся там определение трагедии, и это – хотя, на первый взгляд, и несколько странное – предположение неожиданно подтверждается.
Так, например, о катарсисе Аристотель пишет не только мимоходом в «Поэтике», но и довольно подробно в «Политике»; ниже этот параграф «Политики» будет проанализирован, а сейчас достаточно отметить, что привлекается он к решению проблемы трагического катарсиса куда реже, чем было бы естественно, хотя, и это существенно, катарсис «Политики» гораздо ближе большинству толкований, чем катарсис «Поэтики». Другой признак особого престижа трагического катарсиса – заметное пренебрежение исследователей как «Поэтикой» в целом, так и теми работами о ней, где катарсису не отводится исключительного места. Вот, например, в монографии Дж. Элса «Поэтика Аристотеля» утверждается, что выделение катарсиса в основную категорию неправомерно, ибо не подкрепляется другими трудами Аристотеля, никогда не писавшего о важном вскользь, и что столь же неправомерно анализировать в качестве образцовой трагедии только «Царя Эдипа», потому что не менее образцовой трагедией Аристотель считал мелодраматическую «Ифигению в Тавриде»[53], – все это вполне очевидно даже при самом поверхностном чтении «Поэтики», но Элс рискнул об этом напомнить. А в результате его – очень хорошая – книга никак не повлияла на толкования трагического катарсиса, и более того: не только не совсем ясная фраза шестой главы сохранила свой сверх‑престиж, но и сам проф. Элс порой попадает в разряд не заслуживающих серьезного отношения эксцентриков (например, лет двадцать назад во время одной дискуссии его упорно именовали «этот англичанин», хотя имя «этого англичанина» немедленно было подсказано кем‑то из менее лояльных к катартической традиции участников). И наконец, что в данном случае едва ли не неизбежно, под сомнение ставится сама предпосылка, будто Аристотель в своем определении трагедии намеревался выразить нечто определенное, – и верно, такая предпосылка помешала бы умножению противоречивых толкований, меж тем как «взятые вместе, существующие теории помогают увидеть богатство идей, столь лаконично выраженных подчас в „Поэтике“»[54]. В результате текст Аристотеля из объекта исследования обращается в повод для рефлексии.
Несомненно, в этом‑то и заключается особая ценность той самой фразы из шестой главы: она может быть поводом для спекуляций хоть медицинских, хоть психологических, хоть мифологических, хоть этических, хоть любых других (всех не перечесть), будучи в то же время их обоснованием, своего рода историческим оправданием: ведь еще сам Аристотель это утверждал, а если не это самое, так что‑то в этом роде. В подобном культурном контексте филологическое обращение к катарсису «Поэтики» не вполне прилично и, как видно по реакции на книгу Элса, по‑своему опасно: филологический анализ неизбежно связан с цитированием; цитирование обнаруживает, что «Поэтика» – трактат формальный и в значительной степени нормативный; такой трактат не может быть туманным по смыслу ни в какой своей части, тем более в части определений; раз так, катарсис из определения трагедии должен оказаться не сложнее всего прочего – а все прочее не слишком сложно, хотя подчас не совсем привычно. Ниже читателю предлагается именно такой анализ, и он может отвергнуть его, не читая, – затем и понадобилось подробное предисловие.
Будет полезно сначала обратиться к тем параграфам «Политики», где, как сказано выше, о катарсисе говорится даже подробнее, чем в «Поэтике», тем более что текст «Политики» прямо или косвенно – через знаменитый труд И. Бернайса – сам послужил источником многих толкований. Описанный в «Политике» музыкальный катарсис был понят Бернайсом в медицинском смысле (что небезосновательно, так как лечебное воздействие музыки было известно уже в древности), а затем результаты анализа «Политики» были без всяких поправок применены к «Поэтике»[55]. Груд Бернайса используется толкователями «Поэтики» довольно часто и упоминается практически всегда, а тем самым косвенно используется и «Политика», никогда, однако, не анализируемая заново, так что ссылка на «Политику» в подобных толкованиях – не более, чем знак согласия с теорией Бернайса.
Итак, в «Политике», назвав в числе возможных воздействий музыки очистительное, Аристотель поясняет (Polit. VIII, 7, 1342 а 5–6): «Страсть (πάθος), с силою одолевающая иные души, присуща всем в разной степени – кому более, кому менее; таковы жалость, страх, а еще восторг (ἐνθουσιασμός), ибо и этим порывом многие одержимы, как видим мы по священным песнопениям, когда пользуют душу разрешающими (ἐξοργιάζουσι) напевами, утешаясь точно как от излечения и катарсиса. То же самое по необходимости испытывают и жалостливые, и пугливые, и все прочие впечатлительные, ибо каждого одолевает одна из поименованных страстей и у всех возникает некий катарсис (κάθαρσίς τις) и вместе с удовольствием дает облегчение; точно так и катартические напевы доставляют людям безвредную радость (χαρὰν ἀβλαβῆ)» – слово κάθαρσις и его производные во всех случаях пока оставлены без перевода.
В приведенном параграфе описывается специфика восприятия некоторых видов музыки, в какой‑то мере экстраполированная на специфику всякого восприятия вообще. Психофизиологическое воздействие музыки, особенно музыки религиозной и нарочно для такого воздействия предназначенной, не раз бывало предметом исследования; отмечает это воздействие и Аристотель, но со стороны: «мы видим (ὁρῶμεν), как они пользуют (χρήσονται) душу…» – да это и естественно, коль скоро речь идет о людях впечатлительных (παθητικοί), к каковым Аристотель себя явно не относит, считая чувствительность признаком слабости (ср. 1254 b 8, 1286 а 18). Итак, вкратце смысл параграфа следующий: людей одолевают страсти – одних больше, других меньше; страсти конкретны – у каждого своя; все стремятся завершить страсть катарсисом; катарсисы различны, как различны страсти, – потому и говорится о «неком катарсисе»; у кого страсть – восторг, тот достигает катарсиса через священный напев; у кого страсть – страх и жалость, тот достигает катарсиса иначе, а как, не сказано, но можно предположить, что через трагедию, так как в «Поэтике» Аристотель говорит именно об этих чувствах.
Уже по тексту «Политики» ясно, что трагический катарсис совсем не похож на музыкальный: иная страсть (не восторг, а страх и жалость), а значит, иной способ ее разрешения, иной итог, иная безвредная радость – недаром, как сказано в том же параграфе «Политики» чуть ниже, всякий получает удовольствие оттого, что сродно его душе (τὸ κατὰ ψυχὴν οἰκεῖον). В общем же, хотя из «Политики» нельзя понять, что представляет собою трагический катарсис, зато нетрудно понять, чего он собою представлять никак не может.
Во‑первых, никакой катарсис не равен излечению, что ясно уже из соседства слов «излечение» и «катарсис»: Аристотель не был ритором, пышности ради украшающим речь рядами синонимов, а следовательно, его катарсис не синонимичен излечению даже в пределах данного контекста, хотя утешительное воздействие музыки многими (но не Аристотелем!) понимается именно в медицинском смысле: таким образом, самая популярная из теорий катарсиса – медицинская теория Бернайса – не подтверждается текстом Аристотеля не только применительно к трагедии, но и применительно к какому бы то ни было виду искусства вообще.
Во‑вторых, из «Политики» ясно, что, как уже сказано, трагический катарсис не тождествен музыкальному. Музыкальный катарсис является разрядкой психического напряжения (восторга), достигаемой посредством эксоргиастических или катартических мелодий. Глаголы ἐξοργιάζειν и καθαρίζειν близки по значению и оба могут быть переведены как «очищать», однако ἐξοργιάζειν – культовый термин, подразумевающий психофизиологическую разрядку в результате обрядовых действий, a καθαρίζειν имеет значение куда более общее, так что ἐξοργιάζειν в этом отрывке несет более конкретную смысловую нагрузку. Словом, можно сказать, что музыкальный катарсис достигается эксоргиастическим способом. А трагический, стало быть, – каким‑то другим. Следовательно, пользующиеся широким распространением психологические теории трагического катарсиса, связывающие его с подсознательными (или бессознательными) процессами, представляют собой автоматическое и не подтверждаемое текстом Аристотеля перенесение характеристистик музыкального катарсиса на катарсис трагический.
Вообще говоря, воздействие трагедии на зрителя было весьма многообразно, и не последнее значение в этом воздействии имела, конечно, музыка, а особенно хоровое пение, – однако для Аристотеля как для теоретика и, судя по всему, как для зрителя это было совсем не так, потому что в «Поэтике» он откровенно пренебрегает не только мелическим аспектом трагедии, но даже и метрическим, хотя трагедии имели стихотворную форму и сочинить хорошую трагедию плохими стихами было невозможно по определению. Аристотель подобной возможности и не предполагает, просто сами по себе стихи и тем более сама по себе музыка ему неинтересны. Безвредная радость, которой он ожидал от искусства вообще и от своего любимого жанра – от трагедии, определена им уже в самом начале «Поэтики» (1448 b 12): «Не только философам, но равно и всем прочим сладостнее всего – познавать». Родственность этой радости душе Аристотеля подтверждается всей его жизнью и всей его доктриной и доказательств не требует, зато заметно ограничивает круг возможных толкований: во‑первых, выходит, что трагический катарсис должен быть так или иначе связан с интеллектуальным удовлетворением, а во‑вторых, раз Аристотель говорит не только о философах, но и о «прочих», под познанием следует понимать не философское постижение умозрительных истин, а просто некое новое знание, то есть в общем контексте «Поэтики» знание, полученное благодаря восприятию любого произведения искусства, а в интересующем нас более конкретном контексте – благодаря трагедии. При всей условности разделения «рационального» и «эмоционального», вполне очевидно, что чувство (радость) здесь вторично, будучи результатом мыслительного процесса (познания), хотя нельзя не добавить, что житейский опыт и не менее того естественнонаучные исследования во все еще модной области асимметрии мозговых полушарий подтверждают непосредственную связь интеллектуального удовлетворения именно с чувством радости. Сформулировав эти предпосылки, можно обратиться, наконец, к тексту «Поэтики» и к пресловутому определению трагедии.
Уже в первой главе говорится, что «подражания» (виды и роды искусства) различаются предметом, средством и способом, а в шестой главе трагедия определяется как «подражание действию важному и завершенному <предмет. – Е. Р.> услащенной речью и действом <средство. – Е. Р.>», а далее следует знаменитое δι’ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν, нарочно вынесенное также и в самое начало статьи. Исходя из сказанного ранее, это – третья характеристика подражания – способ, то есть в данном случае способ драматического действия, хотя здесь описывается, скорее, восприятие этого способа публикой, потому что страх и жалость (ἐλεος, καὶ φόβος) являются прежде всего формами восприятия трагедии. Буало, демонстративно открывающий третью песнь своего «Поэтического искусства» переложением вводных глав «Поэтики», далее называет внушение зрителям «сладостного страха» и «чарующей жалости» обязательными для хорошей трагедии условиями:
Si d’un beau mouvement l’agréable fureur
Souvent ne nous remplit d’une douce terreur,
Ou n’excite en notre âme une pitié charmante,
En vain vous étalez une scène savante[56].
Таким образом, в определении трагедии Аристотель допускает словно бы некоторую двусмысленность: сначала пишет о том, что сочинитель может и должен сделать сам (найти или выдумать «важное и завершенное действие» и изобразить его «услащенной речью и действом», то есть как стихотворную драму), а затем – о том, что, казалось бы, зависит уже не только от сочинителя, но и от публики, которая может испытывать страх и жалость, а может и не испытывать, – но так как внушить эти чувства входит в задачу сочинителя, можно сказать, что Аристотель определяет трагедию не как текст, хороший или плохой, а как представление, удачное или неудачное, а это необходимо предполагает сотрудничество автора и зрителя.
В целом предложенные Аристотелем правила сочинения хороших трагедий довольно просты, отчасти обнаруживая своеобразие его собственных вкусов, отчасти основываясь на реальном успехе или неуспехе разбираемых им трагедий. Он постоянно твердит, что не характеры персонажей, не высказанные автором мысли, не следование священному преданию и не красивые стихи создают хорошую трагедию, но только хороший миф (μῦθος) – «первоначало и словно бы душа трагедии» (1450 а 38). От трагического мифа требуется прежде всего цельность, а целое есть то, что имеет начало, середину и конец, так что трагический миф состоит из этих же частей (1450 b 26–32). Никакие отступления от мифа недопустимы, недопустимы даже независимые хоровые партии: хор должен участвовать в действии, ибо все, что вне мифа – лишнее (1456 а 25–32). Трагический миф определяется как «склад событий» – σύνθεσις, τῶν πραγμάτων (1450 а 4), то есть, проще говоря, как сюжет. И действительно, при чтении «Поэтики» совершенно ясно, что именно представляется Аристотелю основой хорошей трагедии – хитросплетенный сюжет. Ошибка и ее неожиданные последствия, приводящие к особенно напряженным из‑за страданий героя перипетиям – вот что вызывает у зрителя страх и жалость, доставляя ему удовольствие (1452 b 30–36; 1453 b 11–13) и, следовательно, приводя к катарсису.
Выше вторая половина фразы, где в первый и в последний раз употребляется это загадочное слово, сознательно оставлена без перевода, так как перевод в данном случае является сразу и толкованием, но теперь пора все‑таки ее перевести – хотя бы частично. Итак, по Аристотелю, трагедия есть подражание действию важному и завершенному, услащенной речью и действом – δι’ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν. Глагольная форма здесь только одна – причастие несовершенного вида περαίνουσα от περαίνειν, что значит «совершать» или, скорее, «достигать», так как в семантике περαίνειν присутствует отчетливо выраженный результативный оттенок, никак не противоречащий контексту, ибо как катарсис вообще (то есть катарсис «Политики»), так и – в любых толкованиях – катарсис «Поэтики» всегда и вполне справедливо понимается как результат некоего художественного воздействия. Зато ситуация со страхом и жалостью несколько сложнее.
Предлог διά, как и всякий предлог, обладает довольно обширным полем значений и, в частности, в сочетании с родительным падежом (как в данном случае) может означать как прохождение сквозь какое‑то пространство или существование в продолжении какого‑то времени (ср. «сквозь годы»), так и действие посредством какого‑то предмета или способа: стало быть, δι’ ἐλέου καὶ φόβου можно понимать и в том смысле, что катарсис достигается посредством страха и жалости, и в том смысле, что он достигается сквозь страх и жалость. Подобные детали нередко оказываются поводом для филологических дискуссий, так как порой один и тот же предлог (один и тот же падеж, одна и та же глагольная форма) способны означать не просто разное, но и противоположное – скажем, применяться как к субъекту так и к объекту действия. К счастью, однако, διά с родительным падежом подобной путаницы создать не может, потому что всегда означает действие чего‑то через что‑то – будь то пространство, время, орудие или, наконец, событие. Ясно, что страх и жалость зритель испытывает в продолжении представления, но ясно также, что чувства эти внушены ему сочинителем, будучи, как уже сказано, способом драматического действия, описанным через его восприятие, – и вот на эту особенность определения трагедии нужно снова обратить внимание.
Интерпретация сочетания τοιούτων παθημάτων связана с более глубокими проблемами, возникающими при интерпретации терминологии Аристотеля в целом. Если оставаться в пределах понятийной системы «Поэтики», πάθημα нельзя понимать как «страсть», потому что страсть в «Поэтике» всегда именуется πάθος. Вообще говоря, оба эти слова вполне могут выступать как синонимы, и в «Политике», например, страх и жалость определяются как πάθη – сильные (страстные) чувства. Но в «Поэтике» πάθος – совершенно конкретный термин, означающий именно и только страдание трагического героя[57]: если понимать в контексте «Поэтики» πάθος и πάθημα как синонимы, и впрямь появятся основания для «эксоргиастического» толкования катарсиса, потому что переживания зрителя отождествятся со сценическими страданиями – но тогда ни о какой «безвредной радости» не может быть и речи! Однако из контекста «Поэтики» вытекает, что πάθος по меньшей мере опасен и часто губителен, a παθήματα безопасны и даже приятны.
Нельзя не заметить, что πάθος приобретает на время терминологическую однозначность именно в «Поэтике» – в отличие от «Политики», где страсти понимаются в самом широком смысле и где поэтому к ним причисляются страх и жалость. Таким образом, лишний раз подтверждается то, что и без того обнаруживается при внимательном чтении Аристотеля, – отсутствие у него единой терминологической системы. Стремясь к однозначности в пределах каждого трактата и создавая для этого термины ad hoc, нередко с подробным определением, а нередко почти или вовсе без определения (как παθήματα в «Поэтике»), Аристотель может больше не воспользоваться этими терминами даже в пределах данного сочинения, не говоря уж о других: так, трагический патос при всей своей терминологичности остается, как сказано, термином лишь в пределах «Поэтики», а трагический катарсис, несомненно в определении трагедии означающий нечто определенное (иначе не использовался бы в определении), оказывается чем‑то вроде термина ad hoc и потому непонятен. Не следует, стало быть, воспринимать словосочетание «терминология Аристотеля» слишком буквально: Аристотель именно создавал терминологию, а создана она была его последователями.
Итак, со всеми этими оговорками толкуемая фраза может быть интерпретирована следующим образом: трагедия есть подражание действию важному и завершенному, услащенной речью и действом, достигающая через страх и жалость катарсиса таковых чувствований – а с κάθαρσις’ом нужно подождать еще немного. Вообще говоря, κάθαρσις – слово вполне ходовое, а потому, как и все ходовые слова, неоднозначное: так может называться очищение ритуальное (например, после убийства), очищение медицинское, но так же может называться и разъяснение чего‑то запутанного – скажем, у Эпикура упоминается κάθαρσις φυσικῶν προβλημάτων (2 p. 36), а проблемы, конечно, не очищаются, а решаются или, по крайней мере, проясняются. Поэтому в данном случае будет разумно, коль скоро катарсис, как уже говорилось выше, несомненно связан с радостью познания, последовать З. Гаупту и истолковать катарсис в интеллектуальном смысле. Гаупт, правда, понимал катарсис как «просветление» по аналогии с конечным результатом мистерий, когда приобщившийся таинству адепт просветляет разум сокровенным знанием: раз трагедия – «дионисийское действо» и возводится к вакхическим мистериям, стало быть, сокровенное знание просветляет также и разум театральной публики[58]. В целом такое толкование довольно шатко, как и почти любое объяснение трагедии преимущественно из ритуала, но предпринятая Гауптом попытка интеллектуализации катарсиса от того не менее полезна и оказывается дополнительным доводом в пользу замены катарсиса‑очищения на катарсис‑прояснение (или решение). Итак, с учетом всего изложенного определение трагедии приобретает такой вид: «Трагедия есть подражание действию важному и завершенному, услащенной речью и действом, достигающая через страх и жалость прояснения таковых чувствований». Прояснение чувствований в конце трагедии соответствует по времени сюжетной развязке – и вот тут‑то обнаруживается одно любопытное обстоятельство.
В «Поэтике» имеется не совсем понятный и оттого почти лишний (то есть в случае непонимания не слишком препятствующий чтению) термин – катарсис, зато одного термина там явно недостает. Целое имеет начало, середину и конец, и из этих же частей состоит трагический миф, он же сюжет (Poel. VII, 1450 b 26–32), «склад» которого (σύνθεσις) должен, следовательно, включать конец (τέλος). Однако при дальнейшем анализе трагического сюжета в нем выделяются только δέσις и λύσις, чаще всего понимаемые (и переводимые) соответственно как «завязка» и «развязка». Завязка, включающая релевантные сюжету элементы предыстории, занимает собою, как и положено завязке, начало трагедии, a λύσις – это все остальное до самого конца (1455 b 24–28) – для развязки очень уж долго, просто неестественно долго! Выходит, например, что в одной из любимых трагедий Аристотеля, в «Ифигении в Тавриде», λύσις начинается (самое позднее) с момента, когда Ифигения узнает Ореста, и занимает собою, следовательно, больше половины драмы. И вот тут‑то наконец возникает психологическая проблема, неизбежная при обращении к катарсису, хотя суть этой проблемы не в способах утоления страстей, а в исследованной еще Бенджаменом Уорфом своеобразной магии мнимо понятных слов[59].
Аристотель первым в Европе упорядочил правила поэтического искусства, использовав в своей «Поэтике» среди прочих терминов термин λύσις – от глагола λύειν со значением «развязывать», «разрешать», «распутывать». После Аристотеля было сочинено еще множество поэтик, и самыми строгими были, разумеется, классицистические, в которых тоже немало говорилось о трагедии и использовался термин dénouement от глагола dénouer со значением «развязывать», «разрешать», «распутывать». Влияние Аристотеля здесь несомненно, однако говорить о прямом заимствовании оснований нет, так как греческий термин и его французская калька означают разное: λύσις наступает сразу после завязки и может занимать до половины общего объема трагедии, a dénouement наступает (по Шаплену) лишь в пятом акте[60], то есть в самом конце трагедии, занимая не более пятой части ее, общего объема. Таким образом, λύσις уже ввиду своей длительности состоит из многих сюжетных элементов, a dénouement представляет собой один‑единственный элемент – неожиданное разрешение драматической коллизии. Как сказано у Буало:
Que le trouble, toujours croissant de scéne en scéne,
A son comble arrivé se débrouille sans peine [61]–
то есть сразу, быстро, без дополнительных перипетий. И все новоевропейские понятия о развязке подразумевают именно этот быстрый классицистический dénouement, наступающий после финальной кульминации действия, напряжение которого нарастало «от сцены к сцене». В таком своем значении слово «развязка» легко входит в любые речевые контексты новоевропейских языков, обычно безо всяких ассоциаций с драматическим искусством (ср. у Даля развязка – «последние окончательные обстоятельства, чем дело решилось»). Во всех своих значениях и во всех языках слово «развязка» настолько обиходно и общепонятно, что воспринимается без всяких размышлений – и вот тут‑то читателя «Поэтики» ожидает ловушка из числа так удачно описанных Уорфом.
Читатель «Поэтики», даже намеревающийся сделаться ее толкователем, видит у Аристотеля слово λύσις, понимает «развязка» – и далее остается в уверенности, что о развязке Аристотель уже написал, раз написал про λύσις. Это никоим образом не упрек исследователям, что они, дескать, не понимают определения λύσις, содержащегося в восемнадцатой главе «Поэтики», – конечно же определение это всем понятно и интерпретируется адекватно. Однако обаяние знакомого по видимости слова создает иллюзию, будто у Аристотеля что‑то сказано о «настоящей» (вернее, «нашей») развязке: ведь про λύσις сказано, a λύσις – развязка, а развязка – быстрый и неожиданный dénouement, быстрота и неожиданность которого заключены уже в самом слове «развязка», то есть λύσις, а про λύσις у Аристотеля сказано… – и так далее. Если же из этой языковой ловушки вырваться, «Поэтика» преподнесет читателю другие неожиданности, но тут придется прежде сказать несколько слов о «Поэтике» в целом.
Всякая норма представляет собой канонизацию какого‑то реального или хотя бы воображаемого таковым образца: так, ритуальные нормы канонизируют действия культурных героев или мифических первопредков (например, впервые принесших огненную жертву), речевые нормы канонизируют речевой обиход доминирующих социальных групп (например, оксфордское произношение), нормы так называемой «философской жизни» варьируются в зависимости оттого, к какой школе принадлежит философ (стоик и пифагореец живут по совершенно разным правилам) – и всякий раз, когда речь идет о некой системе норм и предписаний, существенно знать, какой прототипический образец она канонизирует. Поэтому, в частности, воззрения Аристотеля на эпический сюжет обусловлены не только его общими воззрениями на сюжет, но и канонизированными до него образцами, «Илиадой» и «Одиссеей», зато с трагедиями он чувствовал себя значительно вольнее: классики относительно нового в ту пору жанра еще не превратились по примеру Гомера в полубогов. Вот простая иллюстрация. Почти все трагедии сочинялись на мифические сюжеты, и это можно было бы считать правилом[62], но Аристотель посчитан это всего лишь обиходом и обосновал свое мнение тем, что в «Цветке» Агафона вымышлены все события и все персонажи, а успеху трагедии это не вредит (Poet. IX, 1451 b 23). В рассуждениях своих Аристотель руководствуется не только соображениями сценического успеха, и «Цветок» включен (пусть не первым номером) в список образцовых трагедий.
Предлагаемые «Поэтикой» нормы представляют собой результат анализа образцовых трагедий и выработки на этом основании соответствующей системы правил: стало быть, произвольность нормы обусловлена неизбежной произвольностью выбора образцовых трагедий, зато реальность нормы определяется реальностью существования этих образцовых трагедий. Пусть многое из того, что Аристотель отвергал, совсем того не заслуживало, но всё, что он предписывал, действительно существовало, и всё, что существовало, он предписал или отверг – или оставил, как он выражается, «на усмотрение хороводителей».
Всё это следовало напомнить, чтобы отчетливее подчеркнуть, что автор «Поэтики» никак не мог совершенно обойти в своем анализе столь характерный для трагедии эффектный финал, обычно с избытком удовлетворяющий даже самым ригористичным классицистическим требованиям. Вот как выглядят «с точки зрения Буало» финалы (dénouements) двух самых образцовых для Аристотеля трагедий, «Царя Эдипа» и «Ифигении в Тавриде»: Эдип узнает о своих невольных преступлениях (кульминация) и, признав свое поражение в борьбе с судьбой, добровольно себя ослепляет (неожиданная и быстрая развязка, dénouement ); Ифигения хочет бежать с братом из Тавриды и вот‑вот оба будут убиты Фоантом (кульминация), но тут с небес спускается Афина и спасает беглецов (неожиданная и быстрая развязка, dénouement ). Разумеется, каждый из этих финалов входит в λύσις, но лишь как очень небольшая по протяженности часть, а значит, термином λύσις описан быть не может. Зато может создаться впечатление, будто Аристотель, так детально описавший многие частные сюжетные перипетии, совершенно обошел молчанием то, без чего хорошего сюжета не бывает, – развязку в современном значении этого слова. В такое поверить трудно, и действительно, впечатление это было бы неверно, хотя и оправдано сложностью понимания «Поэтики».
А сложность понимания «Поэтики» связана с тем, что фактически Аристотель членит трагический сюжет на главные части тремя способами. Первый способ по аналогии со всяким завершенным действием предполагает деление на начало, середину и конец, без которых не может существовать целое. Второй способ предполагает деление на две части, δέσις и λύσις, – этот способ можно условно назвать «актуальным», так как в терминах актуального членения предложения δέσις сопоставим с темой (о чем говорится), a λύσις – с ремой (что именно говорится). При наложении этих двух видов членения получаем начало = δέσις, середина + конец = λύσις. Наконец, третий способ уместно назвать «перцептивным», так как здесь трагедия членится как бы с позиции воспринимающего субъекта, перцепиента, то есть зрителя, и опять на две части – чувствования (παθήματα), именно страх и жалость, и прояснение или решение (κάθαρσις): страх и жалость зритель испытывает в начале и в середине трагедии, к прояснению или решению приходит в конце. Актуальный и перцептивный способы членения не покрывают друг друга, зато являются видами основного (общего) трехчастного членения. Соотнеся термины Аристотеля с общепринятой классицистической по происхождению новоевропейской терминологией, получаем:
| Новоевропейская терминология | Терминология «Поэтики» Аристотеля | ||
| общее | актуальное | перцептивное | |
| завязка | начало | δέσις | παθήματα |
| действие с кульминацией | середина | λύσις | |
| развязка (dénouement ) | конец | κάθαρσις |
Итак, финальное прояснение чувствований , тот самый катарсис , в общей терминологии Аристотеля соответствует концу трагедии, будучи описан через его восприятие зрителем, а в принятой ныне терминологии соответствует развязке, которая у Аристотеля, следовательно, описана не словом λύσις (которое, если уж переводить, лучше, наверно, переводить с указанием на длительность процесса, то есть как «развязывание»), а словом κάθαρσις.
Буало пишет, что «ум никогда не чувствует себя более живо пораженным (plus vivement frappé )», чем в финале трагедии, когда «познанная истина переменяет всё (la verité connue change tout )» и в перечне толкований трагического катарсиса эти строки никогда не приводятся, хотя именно в них лучше всего сформулирована та внезапность окончательного прояснения, которой должен завершаться хороший трагический сюжет по мнению двух лучших его исследователей. Такой катарсис – потрясающая душу развязка – и дарит зрителю безвредную радость сперва возбужденного самыми сильными средствами и наконец сполна удовлетворенного любопытства.
[1]Черняев П. Н. А. С. Пушкин как любитель античного мира и переводчик древнеклассических поэтов. Казань, 1899; Любомудров С. И. Античный мир в поэзии Пушкина. М., 1899 (обе книги явно связаны с юбилейными торжествами 1899 г.); Малеин А. И. Пушкин и античный мир в лицейский период// Гермес. 1912. № 17. С. 437–442; № 18. С. 467–471; Покровский М. М. Пушкин и античность // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. № 4–5. М.; Л., 1939. C. 27–56; Якубович Д. П. Античность в творчестве Пушкина // Там же. № 6. М.; Л., 1941. С. 92–159.
[2]Покровский М. М. Пушкин и Гораций // Доклады АН СССР. 1930. № 12. С. 233–238.
[3]Ввиду доступности пушкинской библиографии перечисляю (по алфавиту) только авторов опубликованных к юбилею статей: В. Ванслов, Б. В. Варнеке, Η. Ф. Дератани, М. Я. Немировский, Ю. П. Суздальский, И. И. Толстой и, наконец, H. Grégoire.
[4]По алфавиту: Альбрехт М. Г. К стихотворению Пушкина «Кто из богов мне возвратил…» // Временник Пушкинской комиссии. 1977. Л., 1980. С. 58–68; Кибальник С. А. О стихотворении «Из Пиндемонти»: (Пушкин и Гораций) // Там же. 1979. Л., 1982; Смирин В. М. К пушкинскому наброску перевода оды Горация к Меценату (Carm. I, 1) // Вестник древней истории. 1969. № 4. С. 129–134; Степанов Л. А. Пушкин, Гораций, Ювенал // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 8. С. 70–82; Суздальский Ю. П. Пушкин и Гораций // Іноземна філологія. Вип. 9. Питання класичної філології. Львів, 1966. № 5. С. 140–147; Сурат И. «Кто из богов мне возвратил…»: Пушкин, Пущин и Гораций // Новый мир. 1994. № 9. С. 209–226; Файбисович В. М. Стихотворение Пушкина «Кто из богов мне возвратил…»: К пушкинской концепции Горация // Пушкин. Исследования и материалы. М.; Л., 1995. Т. 15. С. 184–195; Busch W. Horaz in Russland. Studien und Materialen // München. 1964. P. 154–164; Castello D. P. Pushkin and Roman Literature // Oxford Slavonic Papers. 1964. Vol. 11. P. 55.
[5]Laharpe J. F. Lycée, ou cours de littérature ancienne et moderne. T. 2. Ch. 7. Sect. 2. Paris, 1799; русский перевод («Ликей, или Круг словесности древней и новой») издавался в Петербурге в 1810–1814 гг. В главе «Древняя лирика» Лагарп отводит Горацию целый раздел, но это десяток страниц, где немногие сведения о Горации иллюстрируются рифмованными переводами нескольких од (ни одна из них у Пушкина никак не упомянута).
[6]Пушкин А. С. Полн. собр. соч. T. XI. Л., 1949. С. 273–274 (далее ссылки на том и страницу даются в тексте).
[7]Хотя Якубович еще утверждает, что «Кто из богов мне возвратил…» – одно из двух свидетельств близости Горация Пушкину (второе – «Царей потомок Меценат…», перевод первых строк Carm. I, 1, к тому же сделанный, как позднее показал В. М. Смирин, с французского) (см.: Якубович Д. П. Указ. соч. С. 110), уже Г. Д. Владимирский называет переложение оды к Помпею Вару имитацией (Владимирский Г. Д. Пушкин‑переводчик // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. № 4–5. 1939. С. 323). Итог этого сопоставления подводится в указ. выше статье В. М. Файбисовича (С. 184–187).
[8]О Помпее Варе известно очень мало, а без посвященной ему оды Горация не было бы известно ничего. Вероятно, он назывался Помпеем потому, что его отец (или дед) получил римское гражданство благодаря Помпею Великому; вероятно, после разгрома при Филиппах он присоединился к Сексту Помпею (сыну триумвира) – точно так же поступили и многие другие сторонники Брута и Кассия, потому что иного способа продолжать войну не было. Секст Помпей не отличался непреклонностью Брута и заключал временные союзы то с одним, то с другим триумвиром, но после разгрома при Филиппах настоящей «республиканской» (то есть сенатской) армии никогда более не существовало.
[9]Здесь уместно напомнить, что Гораций делал блестящую карьеру при Бруте (должность командира легиона в звании войскового трибуна для незнатного молодого человека была очень высокой, и ему завидовали уже тогда), а при Августе не делал никакой. Правда, Меценат подарил ему и Вергилию по усадьбе, однако в порядке компенсации, так как их собственные имения оказались конфискованы при наделении землей ветеранов, но Гораций в результате оказался навряд ли богаче, чем был до конфискации. Представляется уместным напомнить также о битве при Филиппах и о ее ближайших последствиях. При Филиппах объединенные армии Брута (правый фланг) и Кассия (левый фланг) встретились с объединенными армиями триумвиров Антония (правый фланг) и Октавиаиа (левый фланг) – Брут побеждал, однако Антоний потеснил Кассия, и тот в панике покончил с собой, что и решило исход сражения. Через несколько дней остатки армии Брута сразились с армией Антония, были разгромлены, Брут тоже покончил с собой, и все тот же Антоний похоронил его со всеми воинскими почестями – и вот Антония Гораций всегда ненавидел. Итак, поэт вернулся в Рим, доставшийся по соглашению между триумвирами Октавиану, который посадил там полуофициальным наместником Мецената, а сам продолжал воевать и не возвращался в столицу более десяти лет. Политическая гениальность Октавиана обнаруживалась постепенно, а когда совсем молодой Гораций поселился в Риме, совсем молодой наследник Цезаря был лишь одним из триумвиров: было совершенно не очевидно не только то, что он всех победит и станет Августом, но даже и то, что сам он уцелеет в конкуренции с очень сильными противниками. Хотя в общем судьба государства решилась при Филиппах, на единоличную власть претендовал не один Октавиан – и никто не мог знать наверняка, кому она достанется. А если бы она досталась Антонию, не только не было бы никаких амнистий, но все лица, как‑либо связанные с его политическими противниками (прежде всех Меценат, а уж кстати и друзья Мецената), скорей всего, были бы попросту перерезаны – подобное уже случалось, и так погиб Цицерон. Это не значит, что Гораций, вернувшись в Рим, подружившись с Меценатом и сочувствуя Октавиану, избрал себе опасную долю, а значит лишь то, что во время гражданской войны безопасных мест не бывает.
[10]Файбисович В. М. Указ. соч. С. 187–195.
[11]Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1976. С. 427 (Тучков родился в 1767 г., так что принадлежал поколению, вскормленному просветительскими идеями).
[12]Ю. М. Лотман в комментарии к «Евгению Онегину» отмечает, что сближение rus‑Русь само по себе не было оригинальным: у Стендаля в «Анри Брюлларе» жители французского городка, ожидая прихода русских, шутят «о rus, quando ego te adspiciam?» – и никакой связи с Пушкиным тут, конечно, нет (Лотман Ю. М. Комментарий к «Евгению Онегину» М.; Л., 1983. С. 175–176). Что rus‑Russie просится в каламбур, это очевидно; и так как французские школьники учили латынь несравненно больше и лучше российских, и образованные французы, соответственно, знали Горация неплохо, существенным препятствием для возникновения такого каламбура уже в начале моды на каламбуры (то есть при Людовике XIV) была, пожалуй, лишь полная неактуальность Russie – а едва историческая ситуация актуализировала русскую тему, как возникла и шутка. Навряд ли этот каламбур существовал во времена Тредиаковского, иначе его отголоски, скорей всего, как‑то отразились бы в его этимологиях. Но французы у Стендаля именно цитируют Горация, а не изымают из сатиры одно слово, чтобы связать его к тому же не с современным им, а древним названием страны. Вообще, каламбур как игра сходно звучащими словами строится по тому же принципу, что этимология, – с тем лишь различием, что этимология, не будучи (по крайней мере, на уровне декларации) игрой, требует лингвистических аргументов. Итак, если в 1814 г. вышеприведенная шутка действительно существовала, Пушкин мог ее знать, и тогда это может служить дополнительным подтверждением его преимущественно косвенного знакомства с Горацием, но никак не отменяет этимологической пародийности «О rus!».
[13]Файбисович В. М. Указ. соч. С. 184.
[14]Dihle A. Studien zur griechischen Biographie. Göttingen, 1956. P. 1 sqq.
[15]Аверинцев C. C. Плутарх и античная биографии. М., 1973. С. 22.
[16]Wehrli Fr. Die Schuhle des Aristoteles. Basel, 1945. Bd. 11 (Aristoxenes).
[17]Momigliano A. The Development of Greek Biography. Cambridge (Mass.), 1971. P. 45 sqq.
[18]Рабинович E. Г. Флавий Филострат и его герой // Флавий Филострат. Жизнь Аполлония Тианского. М., 1985. С. 217–244.
[19]В европейской традиции своеобразным чемпионом истинно философского образа жизни оказался, конечно, Сократ, не имеющий, по сути дела, никакого учения: см., например, Nehamas A. The Art of Living: Socratic Reflections from Plato to Foucault. Berkeley, 1998. Одним из рецензентов эта монография характеризуется как «партизанская», потому что академический подход якобы предполагает доминирование доктрины над жизнью, хотя можно говорить о двух родах философии, разделенных именно по признаку «теория/практика», и Сократ, конечно, предстанет тогда самым практическим (или жизненным) из всех философов. Жизнь его, однако, уже современниками описывалась так противоречиво, а «сократические преемства» (то есть почти все философские школы, неизменно возводившие себя к Сократу, как Академия, Ликей, Стоя и даже эпикурейцы) так мало похожи между собой, кроме разве наличия у каждой этического учения, что для новоевропейских философов – во всяком случае, постромантических – Сократ мог быть (и, скорей всего, был) не только и не столько образцом, сколько идеальным самооправданием: как ни поступи, в жизни Сократа непременно найдется эпизод, который можно истолковать в том смысле, что и Сократ вел себя сходным образом. Тут можно видеть прямую аналогию с «сокровищницей народной мудрости», из которой всегда можно почерпнуть пословицу о пользе, скажем, бережливости, а затем другую – о преимуществах мотовства.
[20]Browning R. The Emperor Julian. London, 1975. P. 235.
[21]Вяземский П. А. Записные книжки. М., 1963. C. 192.
[22]Пушкин A. C. Полн. собр. соч. T. XIV. Л., 1941. C. 112.
[23]С боевым кличем на устах! (франц.)
[24]Русский архив. 1874. Кн. 2. С. 199.
[25]Вяземский П. А. Старая записная книжка. Л., 1929. С. 65–66.
[26]Terras V. A Karamazov Companion. The Univ. of Wisconsin Press. 1981. P. 13. Пользуюсь случаем поблагодарить профессора Терраса за сочувствие к этой работе.
[27]Цицерон Марк Туллий. Избранные сочинения / Пер. В. М. Смирина. М., 1975. С. 52.
[28]Ван Схоневельд К. Заметки об одном композиционном приеме Пушкина // For Roman Jakobson. The Hague, 1956. P. 532–534 (там же литература вопроса, с тех пор не ставившегося в принципиально новых аспектах).
[29]Топоров В. Н. Еще раз об «умышленности» Достоевского // Finitis duodecim lustris. Таллин, 1982. C. 130.
[30]Сначала Достоевский хотел назвать своего старца Макарием, что было бы прямым намеком на его главного прототипа – Тихона Задонского: но‑гречески Τύχων – «счастливый», a Μακάριος – «блаженный» (XV, 419). Предпочел ли он имя «Зосима» из‑за его внутренней формы (от ζῶ – «живу»), как полагают комментаторы академического издания, или из‑за обаяния личности Верховского, неизвестно, тем более что одно не исключает другого.
[31]Топоров В. Н. Указ. соч. С. 126.
[32]Оный день, день гнева, спасет мир в пламени, по свидетельству Давида и Сивиллы (лат.).
[33]Ср. и «Медее» Сенеки такое же omen – nomen, но реализованное: Медея в разговоре с кормилицей сначала обещает «быть Медеей» (Sen . Med. 171), а затем перед уже решенным детоубийством объявляет, что «стала Медеей» (ibid. 910) – то есть окончательно реализовала в своем поведении тот образ, который связывался с ее именем в предании. Тем самым предание выступает как синхронное действию, отражая не мифические события, а мифические ожидания, программирующие самое действие: пока Медея не совершила всего, что положено совершить Медее, она еще не является подлинной Медеей – так в тождестве имени и судьбы определяющим элементом оказывается судьба. Вполне вероятно, что Сенека здесь ориентируется на знаменитое Marcellus eris, развивая тему с присущим его риторической поэзии многословием.
[34]Вергилий в изложении Лукаса Коллинза / Пер. под ред. проф. СПб Университета И. Помяловского. СПб., 1876.
[35]Вот еще одна любопытная деталь. В приложении к коллинзовскому изданию (см. примеч. 8) Помяловский предлагает читателю отрывки из четвертой Эклоги в переводе Мерзлякова, и финал звучит так:
Начни, дитя, начни с улыбкою небесной
Сретать и познавать взор матери прелестной!
Заставь ее труды, болезни забывать!
Начни! взгляд матери – грядущих благ печать!
Кому родители в сей миг не улыбались,
К тому и божества благие не склонялись.
Сходство с оригиналом тут самое отдаленное; вот те же самые стихи (Ecl. IV, 61–64) в точном переводе С. В. Шервинского:
Мальчик, мать узнавай и ей начинай улыбаться, –
десять месяцев ей принесли страданий немало,
мальчик, того, кто не знал родительской нежной улыбки,
трапезой бог не почтит, не допустит на ложе богиня.
Как и всегда при вольном переводе, у Мерзлякова интересен не самый факт расхождения с оригиналом, а характер смысловых отступлений. Так «мать» и «улыбка» не только обретают у него не присущие им эпитеты, не только десять лунных месяцев беременности утрачивают свою конкретность, но совершенно утрачивается и сама языческая концепция счастья – вместо пира богов и ложа богини появляются безликие «благие божества». Таким образом, Мерзляков (принимающий, конечно, христианское толкование) подверстывает финал Эклоги к современному ему художественному представлению о том, как выглядит младенец Христос на руках у девы Марии, причем «небесная улыбка» и «благие божества» недвусмысленно указывают на конкретный (и едва ли главный) источник этого представления – на Сикстинскую Мадонну. Достоевский считал эту картину «высочайшим проявлением человеческого гения» (Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1981. С. 159), тема Мадонны присутствует в «Братьях Карамазовых» (XV, 460), и, разумеется, ассоциация с любимой картиной не могла не сделать Марцелла еще более привлекательным для Достоевского.
[36]У Аполлона Майкова в «Смерти Люция» и в «Двух мирах» выведен персонаж по имени Марцелл – римский патриций и полководец, обратившийся в христианство и принявший мученичество (типаж сугубо беллетристический). Тем не менее, решившись использовать имя «Марцелл», Майков никак не мог избежать ассоциаций с «Энеидой», так что в «Смерти Люция» герой говорит Марцеллу:
Патриций! Вождь! Стратегик славный!
Марцелл, проведший жизнь свою
В походах, в лагере, в бою.
Один, быть может, предкам равный!
Под «предками» здесь может подразумеваться только Марцелл Меч Римлян, о котором уже шла речь ранее.
[37]Вергилий в изложении Л. Коллинза, С. 145.
[38]Достоевская А. Г. Указ. соч. С. 290.
[39]Там же. С. 327–328.
[40]Dunlop J. B. Starets Amvrosy: Model for Dostoevsky Starets Zossima. Belmont, 1972.
[41]Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. Пг., 1922. С. 68.
[42]Достоевская А. Г. Указ. соч. С. 320.
[43]Там же. С. 324.
[44]Там же. С. 375.
[45]Ф. М. Достоевский. Письма: В 4 т. М., 1959. Т. 4. С. 139.
[46]Там же. С. 91.
[47]Brown М. The «Brothers Karamazov» as an Expository Novel // Canadian‑American Slavic Studies. 1972. № 6. P. 199–208; Terras V. Op. cit. P. 110 (в других местах B. Террас говорит о лейтмотивах и зеркальных образах романа, что также предполагает возможность некоторых, хотя бы и самых общих, выводов).
[48]Белов С. Еще одна версия о продолжении «Братьев Карамазовых» // Вопросы литературы 1971. № 10. С 254–255.
[49]Волгин И. Последний год Достоевского: Исторические записки. М., 1991. C. 153–154.
В дневнике императора запись о казни Млодецкого кончается словами «все в порядке». Значит ли эта, что он опасался публичных эксцессов, которых при этой казни не было, как не было, однако, и в прочих случаях? Или это значит, что Лорис так и не подал письменного ходатайства о помиловании? Положение диктатора было сложным: как военный и человек чести он должен был просить за Млодецкого, а тем более коль скоро на подобное оказался способен жандарм Дрентельн, но как фактический глава государства он такого права, конечно, не имел и мог решить эту моральную дилемму, только заменив официальное письменное ходатайство неофициальным устным, – но если и сделал это, царь ему отказал. Тем не менее, состоялась подобная беседа или нет, Александр имел все основания опасаться, что Лорис в интересах сохранения собственной репутации подаст официальное прошение о помиловании (именно на это надеялся Гаршин), а тогда отказать диктатору будет трудно или невозможно, но все было «в порядке» – Лорис официального прошения не подал.
[50]Это и есть самое знаменитое место «Поэтики» – вторая часть определения трагедии (Poet. VI, 1449 b 21–28), где единственный раз употребляется слово катарсис.
[51]Обзор различных теорий катарсиса см., напр., Миллер Т. А. Аристотель и античная литературная теория // Аристотель и античная литература. М., 1978; Nuttall A. D. Why Does Tragedy Give Pleasure. Oxford, 1996; Goldhill S. Modern Critical Approaches to Greek Tragedy // The Cambridge Companion to Greek Tragedy. Cambridge, 1997.
[52]Флоренская Т. А. Катарсис как осознание (Эдип Софокла и Эдип Фрейда) // Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Тбилиси, 1978. Т. 2. С. 562–570.
[53]Else G. F. Aristotle’s Poetics. London. 1957. P. 439–446. Выводы Элса о катарсисе как «процессе, создаваемом посредством композиции событий» (ibid. Р. 230) представляются недостаточными, однако основные предпосылки его исследования от того не менее бесспорны.
[54]Аникст А. А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967. С. 54. Для постмодернистского дискурса такого рода утверждения – норма, однако применительно к толкованию трагического катарсиса уход от прямого ответа использовался не только de facio, но de iure задолго до современных деклараций о невозможности понять и пересказать написанное, даже если писал Аристотель.
[55]Bernays J. Zwei Abhandlungen über die aristotelische Teoric des Drama. Berlin, 1857.
[56]Если приятный восторг от прекрасного действия не наполняет нас сладостным страхом и не будит в душе чарующей жалости, напрасно представляете вы затейливую сцену. Пер. мой. – Е. Р.
[57]О сюжетообразующем «патосе» см.: Гаспаров М. Л. Сюжетосложение в греческой трагедии // Новое в современной классической филологии. М., 1978. С. 128–129.
[58]Haupt S. Die Lösung der Katharsis‑Theorie des Aristoteles. Znaim, 1911.
[59]Уорф Б. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. М., 1960. Вып. 1. С. 136–139 (об «обозначении явления и его влиянии на действия людей»).
[60]Arnaud Ch. Les théories dramatiques au XVII siècle. Paris, 1888. P. 350.
[61]Волнение, непрестанно возрастая от сцены к сцене, в высшей своей точке без труда достигает разрешения. Пер. мой, – E. Р.
[62]Burian P. Myth into Mythos: the Shaping of Tragic Plot // The Cambridge Companion. Автор утверждает, в частности, что, когда «софистическая риторика и сократический рационализм получили доступ в трагический дискурс… миф утратил почти весь свой престиж… а раз миф был поставлен под сомнение, то и трагедия маргинализовалась» (р. 208). Если бы речь шла о маргинализации чего‑то, что долго существовало в самом средоточии культуры, можно было бы признать, по крайней мере, что в данном случае случилось нечто, для трагедии вредное. Однако между реформой Эсхила и смертью Софокла и Еврипида – очень короткий промежуток, и именно в это время трагедия практически сразу достигла расцвета, пусть очень недолгого. Из этого можно сделать только один вывод: у трагедии был блистательный, но короткий век, в отличие, скажем, от скромного долголетия биографии. Если культурное долголетие обычно можно как‑то объяснить, то краткость всех золотых и серебряных веков проще принять как данность. Другое дело, что трагедию не достаточно сочинить, ее нужно разучить с хором и с актерами и поставить в театре, и вот тут можно заметить, что относительно дешевые литературные жанры, пожалуй, долговечнее относительно дорогих, а трагедия‑то как раз была исключительно дорогостоящим жанром. Ср. статистику современного театрального Бродвея: постановка нового мюзикла стоит не меньше десяти миллионов, постановка драмы – не более миллиона. Древняя трагедия по основным сценическим параметрам соответствует именно мюзиклу.
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Вергилиев жребий | | | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Регламент организации и проведения общественных экологических экспертиз Саратовским региональным отделением Общероссийской общественной организации по защите |
Дата добавления: 2014-12-09; просмотров: 275; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!