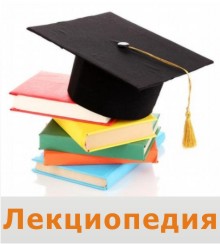
РЕМИНИСЦЕНЦИИ
Date: 2015-10-07; view: 401.
Перелистывая однажды американский журнал, я обратил внимание на две фотографии. На первой была улица заброшенной деревушки, в которой когда-то жили мои родители. На второй - развалины соседнего замка. С этими развалинами на вершине скалы связан один эпизод моей жизни.
Когда мне был двадцать один год, я проводил лето в доме моих родителей. Однажды мне взбрело в голову сходить ночью на эти развалины. Меня сопровождала моя мать и группа целомудренных девушек (в одну из девушек я был влюблен и она разделяла мое чувство, но мы никогда об этом не говорили: она была очень набожна, и, собираясь посвятить свою жизнь Богу, колебалась). Ночь была темной. Мы уже карабкались по крутым склонам, над которыми возвышались стены замка, когда вдруг возникший из трещины в скале белый светящийся призрак преградил нам путь. Одна из девушек и моя мать упали без чувств. Остальные закричали. Хотя я с самого начала не сомневался, что это розыгрыш, меня тоже охватил самый настоящий ужас. Я приблизился к призраку и крикнул ему, чтобы он оставил свои шутки, но горло у меня сжималось от страха. Призрак исчез, и я увидел, как убегает мой старший брат, который, договорившись с приятелем, обогнал нас на велосипедах и напугал, закутавшись в простыню, освещенную светом ацетиленовой лампы: декорации представлялись сами собой, и постановка была великолепна.
В тот день, когда я читал журнал, я как раз только что описал эпизод с простыней. Простыню я видел в левом окне замка, и призрак тоже появился с левой стороны замка. Оба образа наложились один на другой.
Но это еще не самое интересное.
Я давно уже старался представить себе во всех деталях сцену в церкви, и, в частности, то, как вырывают глаз. Однако в этой сцене я обнаружил вполне реальную подоплеку, и я связываю ее с рассказом о знаменитой корриде, на которой я действительно присутствовал - дата и имена соответствуют действительности, Хэмингуэй в своих книгах неоднократно упоминает их - сперва я не делал никаких сопоставлений, но, рассказывая о смерти Гранеро, я окончательно в этом убедился. Вырывание глаза явилось не просто плодом моего воображения, а переносом на вымышленный персонаж вполне определенной раны, полученной на моих глазах реальным человеком (во время единственного смертельного случая, который мне довелось наблюдать). Таким образом, две наиболее ярко запечатлевшихся в моей памяти картины вышли из нее в совершенно неузнаваемой форме, после того, как я сам достиг крайнего цинизма в изображении жизни.
Я сделал и второе открытие. Закончив рассказ о корриде, я прочитал одному моему знакомому врачу первоначальную версию этого рассказа. Я никогда не видел очищенные яйца быка. И считал, что они ярко-красного, того же, что и член, цвета. В тот момент эти яйца казались мне не сравнимыми с куриным яйцом или глазом. Мой знакомый заметил мою ошибку. Мы открыли том анатомии, и я убедился, что яйца человека и быка имеют яйцевидную форму и своим внешним видом и цветом напоминают глазное яблоко.
Впрочем, постоянно употребляемые мной образы связаны и с другого рода воспоминаниями.
Мой отец был сифилитиком. Он ослеп (в момент моего зачатия он уже был слепым), а когда мне было два или три года, его еще и парализовало. В раннем детстве я обожал своего отца. Парализованность и слепота, ко всему прочему, имели еще ряд последствий: он не мог, как все остальные, мочиться в предназначенных для этого местах, а писал в специальный сосуд, сидя в своем кресле. Он писал, сидя прямо передо мной, под одеялом, но он ничего не видел, и оно его плохо закрывало.
Но самым необычным был его взгляд. Его незрячий зрачок закатывался под веко: обычно это происходило в момент мочеиспускания. Глаза на его худом, напоминавшем орлиный клюв лице, всегда были широко открыты. А когда он мочился, его глаза становились почти белыми, и у него на лице появлялось выражение растерянности, ему в эти мгновения открывался какой-то невозможный, доступный ему одному мир, который вызывал у него отчужденный смех. Эти белые глаза связаны у меня в сознании с образом яиц, вот почему в моих рассказах глаза и яйца всегда соседствуют с мочой.
Отметив эти странные ассоциации, мне кажется, я могу указать еще на одно обстоятельство, связанное с самым тяжелым воспоминанием моего детства, которое должно помочь лучше понять главную суть всего рассказа в целом.
С возрастом моя любовь к отцу сменилась бессознательным отвращением. Я уже почти не реагировал на крики, которые он испускал от острых болей, вызванных сухоткой спинного мозга (врачи считают эти боли одними из самых жестоких). Состояние дурнопахнущей неопрятности, к которому в целом сводились его болезни (случалось, что он ходил прямо под себя) тогда не казалось мне особенно тяжелым. Я старался во всем противоречить ему.
Однажды ночью мы с матерью были разбужены громким разговором, который калека вел сам с собой у себя в комнате: он внезапно сошел с ума. Врач, за которым меня послали, явился очень быстро. Отец обсуждал сам с собой какие-то чрезвычайно радостные события. Когда врач с моей матерью вышел в соседнюю комнату, безумец завопил зычным голосом:
ПОСЛУШАЙ, ДОКТОР, КОГДА ЖЕ ТЫ ПЕРЕСТАНЕШЬ ТРАХАТЬ МОЮ ЖЕНУ!
Он расхохотался. Эта фраза, сведшая к нулю весь длительный процесс моего строгого воспитания, оставила во мне, помимо ужасного веселья, постоянную бессознательную потребность искать в своей жизни и мыслях ее эквиваленты. Может быть, этим можно объяснить появление "Истории Глаза".
Теперь мне хотелось бы покончить с наиболее жуткими переживаниями своего детства.
Я не могу полностью идентифицировать Марселлу с моей матерью. Марселла - это незнакомка лет четырнадцати, однажды сидевшая рядом со мной в кафе. И тем не менее...
Спустя несколько недель после приступа безумия моего отца, моя мать, после ужасной сцены, которую в моем присутствии закатила ей бабушка, в свою очередь тоже потеряла рассудок. Она впала в состояние длительной депрессии. Завладевшие ею навязчивые идеи тяготили меня гораздо больше необходимости постоянно за ней присматривать. Ее бред пугал меня до такой степени, что однажды ночью я даже снял с камина двва тяжелых канделябра на мраморных подставках: я боялся, что она меня убьет во время сна. Я дошел до того, что выйдя из терпения, в отчаянии заломил ей руки и ударил ее. Мне хотелось снова заставить ее рассуждать здраво.
Однажды моя мать, воспользовавшись мгновением, когда я отвернулся, исчезла. Мы долго ее искали, наконец мой брат нашел ее повесившейся на чердаке. Правда, нам удалось вернуть ее к жизни.
Потом она пропала во второй раз: я долго искал ее у ручья, в котором она могла утопиться. Я обежал все окрестные болота. Наконец я увидел ее на дороге: она была до пояса мокрая и с ее юбки ручьем стекала вода. Она сама вылезла из ледяной воды ручья (дело было в разгаре зимы), в том месте было слишком мелко, и утопиться она не смогла.
Обычно я стараюсь не думать обо всем этом. Прошло столько лет и эти воспоминания почти не трогают меня: время их нейтрализовало. Они смогли снова появиться на свет только в деформированном до неузнаваемости виде, обретя, в ходе этой деформации циничный смысл.
ПЛАН ПРОДОЛЖЕНИЯ "ИСТОРИИ ГЛАЗА"
После пятнадцати лет беспросветного разврата Симона оказывается в лагере пыток. Правда, случайно: история мучений, слез, бессмысленных страданий, Симона на грани обращения, ее пытается наставить на пусть истинный иссохшая женщина, богомолка из Севиллльи. Ей уже 35 лет. Когда она попадает в лагерь, она еще красива, но старость постепенно подкрадывается к ней и это необратимо. Эффектная сцена с богомолкой и женщиной-палачом: богомолку и Симону забивают до смерти, Симона остается верна себе. Она умирает так же, как занималась любовью, отдавшись целомудренной и равнодушной смерти: лихорадка и агония искажают ее лицо. Палач продолжает ее бить, но она уже не воспринимает ни ударов, ни слов богомолки, ее сотрясают предсмертные судороги. Это уже не эротическое наслаждение, а нечто гораздо большее. Вечное. Это даже не мазохизм, в сущности, это экзальтация гораздо больше того, что вообще можно себе представить, она превосходит все. Но в основе ее лежат все те же одиночество и отсутствие смысла.
| <== previous lecture | | | next lecture ==> |
| ЛАПКИ МУХИ | | | Жорж Батай |