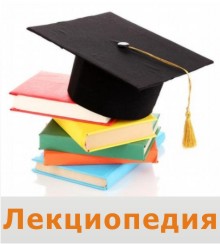
Советская культура 30-х – начала 50-х гг.
Date: 2015-10-07; view: 446.
Социально-политический контекст: Главная политическая характеристика данного периода – полное сосредоточение власти в руках И.В. Сталина. Период относительного плюрализма и становления механизма управления заканчивается, все основные политические конкуренты Сталина устраняются сначала политически, а потом физически. На общество обрушивается волна террора, в результате которого многочисленные социальные группы (кулаки и середняки, духовенство, мелкие торговцы, ремесленники и др.) подвергаются различной степени социальной дискриминации: от лишения гражданских прав до ссылки, лагерей или расстрела. Число заключенных в конце 30-х годов составляет по оценкам последних лет порядка 1,5 млн. чел. В результате репрессий, пик которых приходится на 1937 – 1938 гг., существенно изменяется состав партийной элиты: к власти приходит новое поколение, значительную часть которого составляют бывшие крестьяне, не имеющие высшего образования, вступившие в партию после 1924 г. («ленинский призыв»). Формируется жесткая система управления, в которой весь спектр политических, экономических и социальных решений принимается либо по согласованию с Генеральным секретарем ЦК, либо по его прямому указанию. С другой стороны, на уровне официальной идеологии происходит смягчение классового подхода и провозглашение демократических норм, что находит отражение в Конституции 1936 г., вводящей всеобщее избирательное право и прямое тайное голосование. В международной политике осуществляется переход от «распределенной» модели, в основе которой лежал расчет на синхронный приход коммунистов к власти в ряде стран и образовании нескольких равнозначных центров социализма, к «центрированной», где ядром системы становится СССР, постепенно распространяющий свое влияние в мире. Эта модель обретает конкретные очертания после победы СССР во Второй мировой войне и образовании социалистического лагеря.
Социально-экономический контекст: Экономический хаос 20-х годов сменяется жесткой экономической политикой, которую можно назвать тотальной. Коллективизация 1929 – 1933 гг., индустриализация первой и второй пятилеток (1929-1933 гг., 1934-1939 гг.) осуществляются в директивном порядке и не допускают какого-либо обсуждения эффективности принятых планов. Реальные экономические механизмы не подчиняются навязанным сверху идеологическим схемам, что приводит к голоду, глубоким экономическим и производственным кризисам. Основным способом исправления просчетов в экономике становится использование в качестве дешевой рабочей силы многомиллионной армии заключенных. Рынок 20-х годов сменяет система государственного распределения, задающая сложно организованную статусную иерархию: доступ к социальным благам определяется значимостью человека для государства и его включенностью в систему социальных сетей. Большую часть указанного исторического периода страна живет при карточной системе. С другой стороны, в 30-е годы происходит резкий скачок в тяжелой промышленности, благодаря которому СССР к концу 30-х гг. выходит на 1-2 место в Европе по объему промышленной продукции. Благодаря осуществленной «культурной революции» резко возрастает число людей с высшим образованием, а также количество служащих, что позволяет говорить о новой, «трудовой» интеллигенции, наряду с рабочими и крестьянами становящейся важнейшей социальной силой общества.
Как уже отмечалось, эволюция советской культуры в этот период связана со сменой культурных потоков: место леворадикальной интеллигенции занимают люди, выросшие в основном в крестьянской среде и прошедшие через гражданскую войну или работу на заводе. Хотя они и выходят за рамки традиционной культуры в чистом виде, их мышление и система ценностей сохраняют тем не менее многие присущие такой культуре черты. Одну из базовых характеристик мышления представителей традиционной культуры можно обозначить как связность с ситуационным полем, отсутствие способности рефлексии, а также предварительного внеконтекстного планирования собственной деятельности. Основным регулятором поведения при такой установке выступает повседневный опыт. Одним из главных следствий подобной позиции становится отсутствие столь значимого для европейской и русской теоретической культуры понятия свободы. Жизнь «в гармонии с природой» предполагает подчинение естественному природному ритму, когда действия человека определяют не его собственная воля или рациональный расчет, а ежегодный земледельческий, скотоводческий или охотничий цикл. При принятии решения он ориентируется по контексту, опираясь при этом на выработанную веками традицию. Ситуация не изменялась принципиально, когда крестьянин попадал из деревни в город: здесь его повседневное существование также было распланировано и введено в производственный цикл внешними инстанциями (предприниматель, инженер и т.д.).
Марксизм, как известно, предполагает совсем иной онтологический горизонт: он опирается на линейно-прогрессивную модель времени с отчетливо заданными, хотя и нельзя сказать, что отчетливо осмысленными эсхатологическими устремлениями, связанную со сложно организованной системой абстрактных категорий, и требующую для адекватного понимания развитого теоретического мышления. Не пройдя соответствующей школы, оказавшиеся у власти в 30-е годы «люди из народа» в основной своей массе не просто не понимали общие теоретические основания марксизма, они с трудом понимали смысл слов, которые использовались в рамках марксистского дискурса. Как показывают проводимые в 20-е годы социологические исследования, даже вполне грамотные и развитые крестьяне оказывались не в состоянии понять смысл фраз из советских газет, предлагая, например, следующие трактовки отдельных терминов: «классовый враг» - какой-либо партии класс; «элемент» - выдающий человек; «СССР» - совет народного хозяйства; «инициатива» - какая-нибудь национальность и т.д.
Можно показать, что один из основных векторов, характеризующих динамику движения второго культурного потока в 20-е и 30-е годы, направлен на согласование указанных мировоззренческих и ценностных систем: традиционной, опирающейся на повседневный контекст и подчиняющейся ритмам циклического времени, и предельно абстрактной системы марксизма-ленинизма-сталинизма с ее эсхатологической настроенностью на мировую революцию. Такой взгляд позволяет увидеть единую логику за массой весьма разнородных, на первый взгляд, явлений. Отметим, прежде всего, стремление представить упоминаемые в политическом дискурсе «трансцендентные» персонажи и абстрактные понятия в предельно конкретном, видимом и осязаемом облике, сделав их таким образом частью собственного опыта. Такое стремление отчетливо прослеживается в демонстрациях или театрализованных представлениях 20-х годов, пестрящих разнообразными изображениями британского министра Чемберлена, мировой буржуазии, II Интернационала и т.д. Требование «единства партии» и отрицание фракционной борьбы, обычно выводимые из тоталитарных установок власти, в не меньшей степени связаны с позицией партийных низов, не понимавших теоретических оснований ведущихся споров, считавших их во многом «пустой болтовней» и испытывавших от отсутствия единой стратегической линии глухое раздражение. Критерием поддержки той или иной линии выступала здесь не рациональная аргументация, а эмоциональное восприятие стоящих за этой аргументацией персонажей как «своих» или «чужих».
Необходимость согласования двух мировоззренческих систем позволяет, кажется, прояснить и социокультурные основания явления, которое принято называть «культом личности». Смысл его состоит в том, чтобы, воспроизводя привычный цикл повседневного существования, передоверить функцию стратегического планирования «своему» человеку, понимающему язык и нужды простого рабочего и крестьянина и одновременно без труда ориентирующегося в теоретических дебрях марксистской науки, человеку, которого можно условно назвать медиатором между обозначенными выше системами. Такой медиатор выступал для рядового рабочего (и, в меньшей степени, крестьянина) в качестве регулятивной инстанции, выполняя функции, которые в традиционной культуре выполнял ежегодный земледельческий (скотоводческий, охотничий) цикл. Сначала подобным медиатором был Ленин. После смерти Ленина эту позицию наследует ЦК, а потом Сталин. Хрестоматийный пример такого мировосприятия представлен в фильме братьев Васильевых «Чапаев», выступающем в данном случае как синтез a model of и a model for компонент: на каверзный вопрос комиссара, за какой он Интернационал, Чапаев объясняет, что он за тот, в котором Ленин.
При подобной установке резко возрастает роль личностных факторов, типологических характеристик субкультуры, представители которой наделяются функциями медиатора. Репрессии, резкий пик которых приходится на 1937-1938 гг., в значительной степени порождены «подпольным» сознанием находящихся на вершине власти людей, психологически не готовых воспринимать жизнь в отсутствии врагов как естественную и вольно или невольно ищущих причины собственных неудач не в себе и не в объективных обстоятельствах, а в чьей-то злой воле. Сложившийся «идеологический монополизм», предоставленный им «карт-бланш» на власть вел к объективации их психологических переживаний, блокированных при плюралистической ситуации. Тезис Сталина о возрастании классовой борьбы в период социализма был идеологической фиксацией этих переживаний и опять же выступал одновременно как a model of и a model for.
То, что описанный выше способ согласования моделей принимался в 30-е годы руководством страны, показывает, например, серия опубликованных в «Правде» в конце 1933 – первой половине 1934 гг. писем рабочих и колхозников (сначала в форме писем-отчетов в газету, а потом – писем тов. Сталину). Такие письма появляются как ответ на то или иное указание вождя и общей чертой их, наряду с традиционными советскими риторическими формулами, является скрупулезное, до мелочей, описание повседневного быта, окружающего авторов писем. Эта явно избыточная и странная на страницах центральной газеты подробность описания оказывается, если задуматься, декларацией установки, которую можно условно назвать светским коллективистским аналогом протестантской этики: строительство коммунизма не требует кардинальной ломки традиционного образа жизни, мы должны все вместе добросовестно делать свое дело, и на глазах улучшающаяся жизнь, ведущая к достатку, а потом и к изобилию, будет свидетельствовать о правильности избранного пути.
Следует отметить, что описанные выше черты полностью противоречат «безбытности» и эсхатологичности интеллигентского сознания, более того, прямо соотносятся с тем, что интеллигенция называло словом «мещанство» и что вызывало у нее чувство глубокой ненависти: материальный достаток, налаженный быт, стремление быть «как все». Однако именно эти ценности оказываются близки новому поколению большевистских лидеров, сменяющих поколение 20-х годов.
Опишем основные характеристики происходящего сдвига. Наряду с уже отмеченной поэтизацией быта и материального достатка изменяется отношение к семье и браку. Проповедуемые в 20-е годы новые коллективные формы социальной жизни и тезис об исчезновении семьи при социализме осуждаются в середине 30-х годов как «левацкие», постановлением от 27 июня 1936 г. запрещаются аборты и заметно усложняется процедура разводов.
Изменяется отношение к русской истории. Нигилистическое отрицание прошлого, осуждение Российской империи как тюрьмы народов уступают место обращению к культурным и политическим символам предшествующих эпох. Этот процесс начинается в 30-е годы, однако особую роль играет в нем война. Изменение парадигмы заключено уже в
хорошо известном обращении Сталина: «Братья и сестры!», задающим совсем другой
идеологический горизонт. От коммунистической эсха-
тологии, лишенной понятия Родины, от коммунистической «общины», раздвигающей свои границы до пределов всего мира и заменяющей слова
«отец», «сын» словом «товарищ», происходит обращение к патриотической идее.
Объектом защиты становится не мировой коммунизм, как
это формулировалось в тезисах ЦК несколькими годами раньше, а родная земля.
Контекст «Сталин-партия» отходит на периферию (хотя и не исчезает вовсе), сменяясь
контекстом «Сталин-Отчизна-Народ». Происходит сближение с русской православной церковью, закрываются некоторые антирелигиозные издания, распускается «Союз воинствующих безбожников». В 1943 г. проводится первый с 1917 г. Поместный собор и избирается патриарх. Возвращаются из ссылки некоторые иерархи, открывается небольшое количество церквей. Учреждаются ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского, т.е. царских полководцев и православного святого. После войны этот мотив ослабевает, но противоречивое по своей сути соединение интернационального максизма-ленинизма с русской национальной идеей, выраженное в понятии «советский патриотизм», проходит сквозь всю последующую советскую историю, становясь одной из ключевых культурных доминант. Согласование отмеченного противоречия осуществляется путем переноса на социалистическую идею чуждых ей топологических характеристик: та Русская земля, которая наделяла особыми характеристиками всех живущих на ней и формировала основные черты русского национального характера, теперь объявляется главным носителем советского начала и хранителем идей социализма.
| <== previous lecture | | | next lecture ==> |
| Советская культура 20-х гг. | | | Советская культура 50-х – 60 гг. XX века |