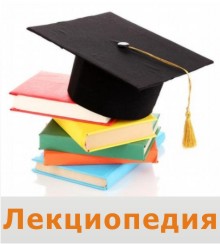
Главная страница Случайная лекция

Мы поможем в написании ваших работ!
Порталы:
БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика

Мы поможем в написании ваших работ!
БЕГАТЬ, КАК БОРЗАЯ
!
Просился в Испанию — отказали. Рвался в коммунистический лыжный батальон на финский фронт. Но судьба вручила ему пост секретаря горкома по промышленности.
В партизанский отряд пришел с распахнутой душой, мечтал о набегах на гарнизоны врага, романтических вылазках в стан фашистов.
Любимым героем оставался Олеко Дундич. Но первые же стычки с фашистами охладили романтический пыл, заставили заниматься будничными многотрудными партизанскими делами: рыть землянки, перетаскивать продукты из одного места в другое, думать о том, как содержать себя в чистоте.
Пошел в рядовые, в матросскую группу — была такая при штабе Мокроусова. Стоял на постах, ходил на связь с подпольщиками, голодал, участвовал в молниеносных ударах на дорогах. Отморозил пальцы и не роптал. Тяжело переживал голод. Высокий, худой, большерукий, с лицом буденновца — такие лица рисовали на плакатах, — с добрыми голубоватыми глазами.
Красников ничего не знал о новом комиссаре, принял его почти безразлично.
Трудно было Красникову: гибель трех боевых групп — рана незаживающая.
Сперва он не поверил, раскидал летучие разведгруппы вокруг, никому не давая покоя: «Искать людей! Искать Пидворко! Его живым не возьмут!» Красников лично облазил всю местность вокруг Алтауса и находил только трупы.[218]
Это было страшно.
Пришел Томенко с тремя партизанами, вернулся Иваненко и с ним несколько человек. Вот и все!
Начштаба был в полубреду и ничего путного сказать не мог. Он боялся всего: Красникова, каждого партизана, даже самого себя. Вид имел жалкий, и язык не поворачивался осудить его, накричать.
Новый комиссар знал, куда идет, с какими трудностями столкнется, готовил себя к самым неожиданным крайностям, но встреча с действительностью его оглушила.
Он ходил из группы в группу, побывал у балаклавцев — их подтянули к Чайному домику; он стоял рядом с Красниковым, но слов не находил. Единственный случай в жизни, когда он не знал, что сказать человеку, что ему обещать, какую дать надежду. Он не знал, как смотреть Красникову в глаза, как быть с человеком, с которым обязан делить ответственность за судьбу людей, за настоящее и будущее оставшихся в живых партизан.
Но Виктор Никитович знал самую простую и самую важную истину: нельзя опускать руки даже в минуты безвыходного отчаяния. Надо дело делать.
Первый, трудный, но самый важный вопрос: способен ли Красников командовать районом?
Этот человек держал в руках боевые группы и бил фашистов там, где другой отступил бы. Кто его обязывал на такой дерзкий шаг? Домнин хорошо помнит: еще в двадцатых числах ноября, то есть почти два месяца назад, в Центральном штабе созрело принципиальное решение — убрать севастопольских и балаклавских партизан из второго фронтового эшелона. Последнее слово оставили за Красниковым и комиссаром Василенко. Они показали железный характер и не ушли из смертельно опасного района.
Но сейчас перед Домниным другой Красников. Командир замкнулся, ушел в себя, и будто не существует более двухсот душ, переживших непереживаемое.
О Красникове ничего худого не услышишь, никто не требует решительных мер. Но есть нечто большее, чем жалоба или прямая хула. Это трудно объяснить, это можно только сердцем понять... Есть ошибки, которых не прощают.
Да, Красников ошибся — это очевидно. Он не имел права посылать отряды на старые базы, сочувствовать тем, кто уводил партизан на Севастополь.
Домнин честно переговорил с командиром. Красников понял его без вводных слов, сказал напрямик:
— Района уже нет, а теми, кто остался в живых, обязан командовать другой человек; лучше, если это будет «варяг». [219]
Он сказал «обязан», а не так, как в таких случаях говорится, — «должен». И этим сказал все.
Азарян снова пересекал яйлу, нес доклад комиссара Домнина о положении дел в районе Чайного домика, рапорт о гибели боевых групп и требование срочно командировать человека, который должен заменить Красникова.
Красников был освобожден. Назначили нового командира. Эта тяжелая обязанность легла на... мои плечи.
Приказ Мокроусова настиг меня в очень трудный час.
Мы — штаб Четвертого района, — как и прежде, под Басман-горой, просыпаемся рано. Я выхожу из теплой землянки, щурюсь: очень уж ярок снег. Бегу к ручейку, умываюсь.
Вода ледяная, а год назад боялся даже комнатной, от любого сквозняка сваливался с ног. Партизанство не только калечит, но и лечит. У нас много легочнобольных, но что-то никто не жалуется на свою чахотку. А может быть, эти самые палочки Коха не выдерживают того, что может выдержать человек? Так или не так — не знаю, но на здоровье никто не жалуется. Нет и простуженных, понятия не имеем, что такое грипп. Врачи наши мало изучают человека в такой необыденной обстановке, в которой мы живем. А жаль!
По заснеженным тропам, через хребты и ущелья, сквозь сеть хитроумных застав идут и идут подвижные партизанские группы на дороги. И что бы там ни предпринимал враг, какие усилия ни проявлял бы — все равно мы проникаем к его чувствительным нервам и режем их нещадно. Где-то под Бахчисараем взлетела машина с пехотой, под Судаком отряд Михаила Чуба зажал фашистский батальон на «подкове», алуштинские партизаны прервали связь Симферополя с Южным берегом Крыма, лейтенант-партизан Федоренко вошел в офицерскую палатку и в упор расстрелял одиннадцать фашистов. И вздрагивает вся налаженная машина охраны и самоохраны, шоком охвачен штаб майора Стефануса, командарм Манштейн шлет в Главную квартиру фюрера оправдательные рапорты, в которых больше отчаяния, чем военной прозорливости.
С ненавистью смотрят фашисты на треклятые синие горные дали; если бы они только могли — подняли бы их на воздух, выжгли леса, дотла сровняли бы деревни и перетопили в Черном море всех жителей без исключения — от мала до велика.
Террор! Террор! Террор!
Заложники. Их ловят на дорогах, улицах, берут в домах, мужчин и женщин, подростков и стариков. Не найдут в районе партизанского удара — берут в городах, степных селах.
Это страх, отчаяние. [220]
Рабочий поселок Чаир. Это недалеко от него мы нападали на целый дивизион. Это в нем были наши глаза и уши: старый шахтер Захаров, его внук, шестнадцатилетний Толя Сандулов... Не было случая, чтобы они не предупредили партизан об опасности.
От поселка лучом расходятся лесные дороги. Много отрядов вокруг: Бахчисарайский, Красноармейский, Евпаторийский, Алуштинский, Симферопольский-первый, Симферопольский-второй, Симферопольский-третий, и ко всем отрядам идет из Чаира тайная тропа.
Чаир — наш «нервный» узел. Мы берегли Чаир. Никто из партизан без особого приказа не мог там появиться, а приказ этот давался только в исключительных случаях.
В поселке был староста, некий Литвинов, тщедушный человек, боявшийся и гитлеровцев и нас.
Как он попал в этот переплет — шут его знает, но выпутаться из него не мог.
Была у него в руках власть, но только видимая. Жители Чаира последнего слова ждали не от него, а от Захарова, нашего человека.
Ближе всех к поселку жил наш, Красноармейский отряд. Он воевал активно, но голодал.
Однажды на этот отряд внезапно напали, так внезапно, что и старик Захаров предупредить не успел. Было убито три партизана, ранено пять.
Мы ломали голову: «Кто предал?» В самом отряде люди были верные.
Тяжелое ранение получили два партизана-красноармейца, они нуждались в специальном уходе. Комиссар отряда Иван Сухиненко спрятал раненых в поселке, на квартире у шахтерки Любы Мартюшевской, которую знал еще с времен своей журналистской работы.
Она умела молчать, но фашисты что-то пронюхали. Вдруг староста Литвинов на свой риск собрал сход, чего он никогда не делал без совета Захарова.
Человечек-невеличек вроде стал поосанистей, когда внушал жителям: нам надо быть осторожней. Немцы прицепятся... тогда быть большой беде, а к чему прицепятся — дите и то знает.
Литвинов говорил, а сам поглядывал на Захарова. Потом он более решительно бросил следующие слова:
— Да ведь всем известно: тропы в лес протоптаны. Да и партизаны, бывает, что захаживают.
— А ты почем знаешь, что захаживают? Видал, что ли? — отрезал Захаров. — Смотри, староста!
— Да я что... разве худого желаю. Хорошо бы тихо, мирненько...
— Ты дочь уйми! Уж больно тянет ее к чужим. [221]
— Что — дочь? Она взрослая. Одним словом, поселяне, я предупреждаю: беда не за горой держится, к нам ползет. — Снова взгляд на Захарова. — Мы сами по себе, а они, — кивок на лес, — пусть сами по себе.
Сход на этом и кончился. Он встревожил Захарова. Литвинов явно намекал: уберите раненых!
Старик послал связного к нам, в штаб района. Наш командир Киндинов аж побелел: кто разрешил помещать раненых?
Отдан приказ: Литвинова арестовать, раненых убрать в санземлянку.
Но мы со своим приказом не успели.
Рано утром 4 февраля в поселок на пятнадцати машинах нагрянули каратели. Жителей в один момент согнали на площадку перед клубом.
Саперы с удивительной быстротой минировали каменные дома рабочего поселка.
Группа гестаповцев обнаружила раненых и бросила их под ноги майора Генберга.
По его приказу немецкий врач осмотрел их.
Генберг подошел к красноармейцам:
— Где ранены?
— На Мангуше.
— Кто вас принял в дом?
— Никто, мы сами зашли и заставили лечить...
— Рыцари, благородство проявляете. — Генберг подошел к толпе, кивнул на Мартюшевскую: — Взять!
Потом взяли Захарова, инженера Федора Атопова, еще и еще.
Раненых увели в деревянный сарай, заперли там и подожгли.
Взрывались дома, факельщики подожгли клуб, столовую. Фашисты поторапливались, десятки пулеметных стволов смотрели на лес.
Поселка не стало. Торчат голые стены взорванных зданий, догорает клуб. Дым, смрад, летящий из подушек пух.
Двадцать жителей повели к оврагу, поставили на краю пятнадцатиметрового обрыва. За ничтожную долю секунды перед залпом Никитин, Зайцев и Анатолий Сандулов прыгнули в овраг. Сандулова тяжело ранило, но все-таки ему удалось добраться до Евпаторийского отряда.
Убили Захарова, его внука, Мартюшевскую, инженера Атопова, Николая Ширяева, Федора Педрика и других.
Оставшихся в живых женщин и детей погнали в Коуш, который стал укрепленным фашистским бастионом; там было и гнездо предателей, услужливых фашистских холуев, поставщиков «живого товара» для палачей.
Нельзя никому простить трагедию Чаира. Так настроен весь наш штаб, настроены все партизаны. [222]
Я был в поселке всего один раз, но помню многих жителей — таких наших, что готовы были вытянуть из себя жилу за жилой, только бы помочь лесным солдатам. Они знали, на что шли их мужья и сыновья, которые дрались в партизанских отрядах.
Надо ворваться в Коуш и разгромить, к чертовой матери, карательный отряд!
Мы связываемся со штабом Третьего района; его командир Георгий Северский и комиссар Василий Никаноров близко к сердцу принимают наш отчаянный риск и дают в помощь три отряда.
Нас пятьсот партизан, мы без долгих проволочек ворвемся в самый центр Коуша и покажем, какие последствия ожидают карателей за трагедию Чаира.
Я сам напрашиваюсь на командование штурмовой группой: дайте мне два отряда, и я войду в Коуш, чего бы это мне ни стоило!
Я дал себе такую клятву, сам себе.
Михаил Македонский ворвется с другой стороны, Евпаторийский отряд — с третьей, и все мы соединимся в центре, там, где главный штаб карателей.
Киндинову мешает привычка к точности. Он хочет по-армейски: чтобы и приказ был заранее написан, и дислокация отрядов перед боем уточнена, и вооружение соответственно
распределено. Все это нужные вещи, поступки, но они задерживают нас, ослабляют сжатую пружину.
Тут комиссар Амелинов более тонко чувствует настроение партизанской массы, оно ему дороже киндиновских расчетов. Скорее в Коуш!
В чем-то уступает Киндинов, в чем-то Амелинов, — в общем, мы теряем двое суток, а можно было обойтись и потерей одного лишь дня — для подтягивания отрядов.
У меня нетерпение, — странно, я такого настроения в лесу еще никогда не испытывал. Мне дали Красноармейский и Алуштинский отряды. Двести партизан. Сила! Есть автоматы, пулеметы, много гранат.
Вот готовлю факелы — мы будем жечь каждый дом на пути, где сидят фашисты.
В разгар подготовки, в час наивысшего напряжения, мне приносят весть, от которой по спине пробежала судорога.
Поскрипывая постолами по снегу, кто-то подошел к штабной землянке.
— Можно?
— Азарян! Ну, здоров, иди на кухню, жалую тебя одним лапандрусиком и стаканом кизилового настоя. И уходи, у меня каждая секунда...
— Як тебе, товарищ командир.
«Товарищ командир»! С каких пор Азарян так заговорил? [223]
— Что там?
Вид его настораживал. Он посмотрел на меня, вынул из-за пазухи завернутый в тряпицу пакет.
— Это тебе, товарищ командир!
Приказ Центрального штаба: я назначен командиром Пятого района. Через двое суток я должен быть на месте.
Итак, мой курс на Чайный домик!
В голове как на экране: несчастный Красников, Томенко без оружия, трагические глаза начштаба Иваненко.
— Поздравляю. — Киндинов был сдержан. — Когда выходишь?
— После Коуша! — машинально, но твердо ответил я.
— Штурм — риск, а приказ командарма надо выполнять.
— У меня двое суток впереди.
Киндинов был нерешителен: с одной стороны, он не хотел нарушать ритм коушанской операции, а с другой — побаивался: а вдруг со мной что случится?
— В Коуше я должен быть! — почти умоляю его.
Он молчал, но комиссар Амелинов понял меня: коушанский штурм мне нужен, я не смогу от него отказаться.
— Завтра мы тебя проводим. И все будет как надо!
...В кромешной темноте мы шли на Коуш, не шли, а бежали.
До этого я повел свою штурмующую группу на руины Чаира. Мы сняли головные уборы и постояли перед свежей могилой, потом смотрели на развалины.
Комиссары не говорили зажигательных слов, командиры еще глубже затягивались самосадом, партизаны прощупывали карманы: хватит ли гранат?
Мы бежали на Коуш, и нас не могли остановить никакие доты.
Ночь темным-темна, где-то за Бахчисараем висит гирлянда разноцветных ракет.
Колючие кустарники. Они нас держат, раздирают лица. Неужели заблудились? Эй, проводники, в трибунал пожелали?
В тревоге смотрю на часы: явно опаздываем. Где-то впереди загудели машины. Неужели пронюхали, бросают подкрепление?
Без четверти два почти рядом с нами вспыхнула красная ракета, а за ней серия белых. Это фашисты. Значит, Коуш под нашими ногами!
Лают собаки, постреливают патрули.
Высоко взлетела зеленая ракета: сигнал Киндинова на штурм!
На северо-восточной окраине вспыхнуло пламя. Сейчас же поднялся второй огненный очаг. Это же Македонский! Он уже действует!
Скорее!
По колено в воде перебежали речку. Кто-то плюхнулся в воду и... вспыхнул ярким огнем — в кармане разбилась бутылка [224] с горючей смесью, партизан сгорел. Серия трассирующих пуль ударила по горящему человеку.
Все чаще вспыхивают подожженные бахчисарайцами дома.
Мы, разгоряченные, вбегаем на улицу. Прямо перед моим носом мелькнул красный свет, в темноте повис испуганный голос:
— Хальт!
Я ударил короткой очередью, в ответ вырвалась длинная пулеметная трель с такой стремительностью, с какой вырывается сжатый воздух из лопнувшего автомобильного ската.
Громкие крики карателей, истошные сирены автомашин, хлопки ракет, пулеметные и автоматные очереди — все слилось в одно, и нельзя было понять, где свои, а где чужие.
В окна летели гранаты — это наши, об крыши бились зажигательные бутылки, вспыхивали короткие, как молния, отсветы, из окон прыгали полуодетые фашисты.
У речки захлебывались пулеметы.
Партизаны рассыпались по улицам и штурмовали дома подряд, жгли их.
Хорошо освещенные пламенем пожаров, гитлеровцы бежали нам навстречу занимать окопы — они не понимали, что их боевые позиции позади нас. Мы расстреливали их в упор. Но и на нас обрушивался град огня. Падали наши, рядом со мною простонал проводник. У меня вздрогнула рука и стала почему-то неметь.
Пожар уже охватил две трети села, но юго-восточная сторона была темна. Значит, евпаторийцы в село не вошли?
Я посылаю разведчиков, но им не дают пройти и ста метров — возникает стена из огня.
Очень отчетливо запомнил все подробности этого первого для меня ночного боя. Удивляла партизанская выдержка. Вот почти рядом со мной паренек лет двадцати из Красноармейского отряда поджигает двухэтажный дом, с балкона которого неистово строчит пулемет. Поражает невозмутимое спокойствие партизана: дом никак не загорается, но он настойчиво делает попытку за попыткой. Наконец приволакивает большой камень, и, встав на него, не обращая внимания на грохот и трескотню ночного боя, на светящиеся пули, которые шальными стаями носятся в закоулках, парень продолжает свое дело, будто вот это и есть главный смысл всей его жизни. И упорство вознаграждается: пламя охватывает балкон, карниз, добирается до крыши. Уже не дом, а только скелет в океане огня.
Он обрушивается на землю, и на его месте поднимается столб черного дыма. А парень перекатывает свой камень к следующему домику.
Стрельба вокруг то утихает, то опять неистовствует с возрастающей силой, особенно там, где Македонский со своей штурмующей группой. Я сумел связаться с командиром бахчисарайцев [225] и узнал: евпаторийцев на месте нет, фашисты пришли в себя; их здесь больше тысячи, и надо уходить.
Киндинов молчит.
Выстрелы почему-то раздаются уже на северо-западной стороне и все выше и выше, на путях нашего отхода.
Македонский уходит, а я все еще держу свою группу в селе, в самом центре его, и огневой шквал охватывает нас с, трех сторон.
Обстановка складывается устрашающая: есть убитые, раненые, их все больше и больше. И вот критическая минута: нашу группу — около ста партизан — прижали к пропасти.
Кончались патроны. Цепь гитлеровцев залегла метрах в пятидесяти от нас, а тут вот-вот рассветет.
Пятый район! Случится так, что я там и не буду.
Вдруг... Что это? Кто? Боевая группа на фланге фашистов!
Неужели евпаторийцы наконец показали и себя? Это же спасение!
Партизаны, стреляя в упор, идут на немецкую цепь. Впереди человек в черном пальто, с пулеметом, прижатым к круглому животу. Идет, и будто никакая пуля его не берет!
Так это же пулеметчик алуштинцев, бывший шеф-повар санатория Яков Берелидзе!
Он отбросил фашистов за овраг.
Мы бежали через улицы, полные дыма и смрада, впереди нас — повар Яков Берелидзе. По заброшенной тропе выскочили в горы.
Рассвело. Медленно, очень медленно мы карабкались в высокогорье. Горящий Коуш оставался внизу, мы его полностью не взяли, но нанесли крупный урон, очень крупный. Три недели лихорадило коушанский гарнизон: менялись подразделения, сортировались офицеры; три недели ни один каратель не высунул и носа, и отряды вокруг уничтоженного Чаира жили как у бога за пазухой. Золотое правило борьбы действовало безотказно: не жди, пока ударят, а бей сам.
А мы шли в горы, похваливали повара Якова Семеновича Берелидзе, который на вопрос: «Как это ты догадался ударить по флангу?» — отвечал, по-ребячьи улыбаясь:
— Понимаешь, другого выхода не было.
У меня надсадно ныла рука; выбрал время, рассмотрел, что с ней.
Оказывается, пулей разорван кончик безымянного пальца.
Меня тошнило. После перевязки, которую мастерски сделала лобастая Дуся Ширшова, стало легче, но в штаб дошел в полубессознательном состоянии. Мне дали глоток чистого спирта, уложили, и я проспал десять часов.
Быстро оделся в дальнюю дорогу. Амелинов подсел рядом, ткнулся плечом к моему плечу:
— Отночуй еще, пророк! [226]
— Пойду, Захар.
— Возьми! — Он положил с десяток лапандрусиков и два куска сахару. — В дороге чайку с «церемонией» хлебнешь. Ну, держи хвост пистолетом.
Киндинов был официален:
— Свяжись с ялтинцами, знай: в беде поможем.
— Спасибо, товарищ капитан.
С Иваном Максимовичем Бортниковым прощался с глазу на глаз: старик ждал меня на тропе. Он до сих пор не знает о гибели супруги — так мне кажется. Но я, как и Амелинов и Киндинов, очень ошибался.
Иван Максимович обнял меня, заплакал:
— Хотел тебя борщом накормить, а вот какая беда стряслась.
Я стиснул старика покрепче и молча ушел.
И снова распроклятая крымская яйла, и снова горный ветер.
Вышли мы на нее при сильном морозе. Однако чувствовалась перемена погоды. Нас догоняла плотная туча, похожая на дождевую: налитая, с темными краями, которые резко выделялись на фоне беловатого неба.
И гора Демир-Капу — оголенная, ветреная — враз потемнела. Туча и нагнала нас, сыпанула густым и необыкновенно теплым дождем. На глазах яйлинский снег оседал, ломался наст, и мы стали тонуть в мокром месиве. Еле выбрались на пик одной из скал и засели там, потрясенные парадоксом природы. С неба падал поток воды и будто мощным прессом вдавливал снег, и горы как бы стали униженно уменьшаться и чернеть.
Но когда мы, промокшие до костей, перевалили через южную кромку яйлы, дождь мгновенно прекратился, и повеяло ледяным холодом. Снег начал замерзать, замерзала и наша одежда, вздуваясь от морозного ветра, подкравшегося с таврических равнин.
Мы бежали по насту и боялись остановиться. Азарян отыскал карстовую воронку, спустился по ней в пещеру, уходящую в землю уступами.
Азарян, обычно веселый, любящий побрехать всласть, подначить, на этот раз просто удивлял меня. Сел и сидит, низко опустив голову. Куда подевал винодел-щеголь свои кокетливые кавказские усики, улыбку покорителя сердец? Ничего этого и в помине не было. Усталый, постаревший человек, который не соблюдает даже элементарное правило: не чистит оружие. А ведь у него автомат.
Азарян застрял на нижнем уступе, мостится к сухой стене.
— Иди за сушняком, — приказываю я. [227]
Он смотрит на меня обиженными и просящими глазами: «Не трогай меня, командир!»
Идет, покряхтывая, и долго не возвращается. Мне хочется пойти помочь ему. Нет, нельзя!
Он приносит коряги, засохшую картофельную ботву, зябко дует на руки.
— Растапливай, только осторожно, — приказываю ему.
Растапливает, посапывая носом.
От лапандрусиков он все же веселеет, а два стакана кизилового настоя приводят его в норму. Но это не прежний говорливый Азарян, а человек, который горя хлебнул по горло.
Меня, конечно, интересуют партизаны, отряды. Я знаю, что там новый комиссар, знаю то, чего не знает до сих пор и Азарян: Акмечетский отряд подчиняют штабу нашего района, а
в нем, как мне известно, есть и харчишки кое-какие. Я прикидываю: сколько же там всего будет партизан? Пятьсот с лишним! Так неужели мы так-таки ничего не сможем сделать?
Я мало что знал о севастопольских и балаклавских партизанах, ведь, по существу, дважды видел Красникова, группу Верзулова, Иваненко, видел голодный штаб, чувство растерянности, неуверенность Красникова, понимал, что над отрядами что-то нависло, что преодолевать это надо срочно, иначе не выкарабкаешься.
Потом рассказы связных, которые непременно проходили через штаб нашего района. В них, конечно, была правда, но не вся. Не было той самой, которая может быть до конца понята только при непосредственном и длительном соприкосновении с ней.
Что-то мой Азарян скрывает от меня: такое впечатление складывается после неоднократного расспроса.
Почаевали, подсушились, переобулись.
Я неожиданно:
— Какая беда стряслась, выкладывай! Ну!..
Азарян растерялся, но скрывать дальше не мог:
— Беда страшная, товарищ командир. Какой народ пропал...
...Сколько всякого горя пережил я в крымском лесу, каких только испытаний не падало на мои плечи, как иногда горько разочаровывался в близком человеке; узнал хорошее и плохое, но никогда прежде у меня не было таких тяжелых минут, какие я испытал в часы раздумья в карстовой пещере.
Но, должно быть, человеку положено перейти и через такое. Не скрою, вышел я в Пятый район с твердой мыслью: взять людей в руки и с ними воевать, бить тех, кто осадил Севастополь.
Мы шли тихо, проскочили дорогу Ялта — Бахчисарай. Шагали, и восточный ветер толкал нас в спину. Таким манером мы [228] скатились на площадку Чайного домика. Встретил нас опаленный остов полуразрушенной печи; обгоревшие кроны сосен сиротливо торчали над пустынным местом, где пахло гарью.
Стволы деревьев исчирканы пулями, косяк леса, что клином уперся в бугорок над домом, торчал рассеченными верхушками.
Комиссара я нашел в трех километрах от поляны.
— С прибытием, командир! — Голос у него спокойный, только немного простуженный. Он посмотрел на Азаряна, который стоял рядом с опущенными глазами. — Он все тебе рассказал?
— Да, я потребовал.
...Журчит хрустально-чистый родник, по ущелью стелется дымка. Севастопольский фронт дышит мне в лицо; внизу, в долине, — облако густого дыма над станцией Сюрень: бьют дальние морские батареи.
— Неужели достают? — удивляюсь я.
Никак не могу привыкнуть к такой близости фронта, мне кажется, что это каратели идут на нас, а пока жарят из пушек, мне хочется сейчас же объявить боевую тревогу.
— Привыкнешь, командир, — говорит Домнин.
Мы сидим на буреломе, между нами идет большой разговор, но почти без слов, смысл его один: с чего начинать?
Я час назад побывал в Севастопольском отряде, вернее — встретился с остатками его.
Впечатление жуткое. Люди оборваны, опалены кострами, не глаза, а бездонные колодцы.
Боже мой, как смотрят на меня!
Мне и Домнину командовать этими людьми, но прежде — поднять их на ноги... А как, чем? Пока одно чувство наваливалось как стена — чувство ответственности.
Я ничего не обещал, только в два раза уменьшил охрану да велел убраться из сырой полупещеры, построить легкие шалаши под сосняком.
Отряд имел в резерве одну лошадь.
— Забить ее и накормить людей мясом, — приказал я категорически.
Красникова нашел на тропе, ведущей к фронту. Рядом с ним был Азарян, который, по-видимому, успел вручить Владимиру Васильевичу приказ командующего.
— Наследство сдаю не из легких, — сказал он виноватым голосом.
В приказе Мокроусова сказано: судьбой Красникова распорядиться самостоятельно. Я могу назначить его командиром группы, политруком, послать в рядовые. Не знаю, какой шаг будет правильным, но мне захотелось оставить Владимира Васильевича при штабе района. Его опыт был нужен, да и нельзя человека в таком состоянии удалять прочь. [229]
Ведь Бортников остался при штабе и не был лишним, почему же Красникова нельзя оставить?
Появился начштаба Иваненко, как-то вымученно козырнул нам.
Мне хотелось узнать кое-какие подробности трагического похода на старые базы.
Рассказывал Иваненко обстоятельно, при этом больше смотрел на Красникова, чем на меня и комиссара, словно искал одобрения словам своим у бывшего командира района, будто всю ответственность подчеркнуто перекладывал на плечи Владимира Васильевича.
Он начал подробно говорить о самих базах:
— Если помните, там есть три ямы, вроде колодцев. Вернее, вход в яму напоминает колодец...
И остановить нельзя, дотошность во всем, будто докладывает о дебетах и кредитах на балансовой комиссии.
Меня невероятно возмущало холодное спокойствие этого человека. Но что я мог сказать, видя его второй или третий раз в жизни, ни разу не видя его в бою?
Красников прервал доклад, задумчиво заявил:
— Не может того быть, чтобы кто-то из наших не пробрался в город. — Он на что-то еще надеялся.
— Город сумеет дать об этом весть? — спросил я.
— Трудно, но возможно. Он знает, где мы.
— Давно нет радиосвязи с Севастополем?
— Пусть радист доложит.
Худой партизан в старом морском бушлате, в заячьей шапке с наушниками медленно подошел к нам:
— Я слушаю.
— Рация в порядке?
— Рация? Она в порядке, да толку... Батарей нет, — безнадежно отвечал радист. Видно было, он уже ни во что не верил и на все махнул рукой.
...Немой диалог между мною и комиссаром продолжается под аккомпанемент фронта.
И в этом диалоге я слышу разные слова, но все об одном: не суди людей с ходу, поставь себя на место Красникова, в положение его партизан. Сто с лишним суток жить под носом, двухсоттысячной армии, на виду у сел, в которых тебя не ждут, где шагают в немецкой форме предатели-полицаи, готовые идти в лес по первому фашистскому приказу. О, они знают этот лес получше тебя! Да, ошибки были, и горько за них расплачивается Владимир Красников, но эти ошибки от исключительности обстановки.
В таком положении мне не приходилось бывать, да и в больших партизанских командирах я не ходил...
Я об этом вслух не говорю, но удивительное дело: догадывается Домнин о ходе моих мыслей: [230]
— А ты думаешь, я ходил в комиссарах? У нас три задачи, командир: накормить людей, установить связь с Севастополем, бить фашистов! А теперь пошли к балаклавцам.
Их, балаклавцев, потомков листригонов, до ста человек, они недавно потеряли своего командира Нафара Газиева. Погиб он в бою. Получил тяжелую рану и, увидев бегущих к нему карателей, последнюю пулю пустил в себя. Был он человек тихий, осторожный, вперед не рвался, но при случае умел и показать себя.
Сейчас командует отрядом пограничник лейтенант Ткачев, бывший начальник Ялтинской пограничной заставы.
Он где-то на старых базах у Кара-Дата; основной костяк отряда перешел к Чайному домику и расположился в затхлой и сырой пещере.
Нас встречает худоплечий человек с немецким карабином за спиной. Он осторожен. Дважды или трижды уточняет: а нет ли за нами «хвоста»? «Вполне может быть, — утверждает он, — o тропу-то к нам пробили вы».
Ведут по каким-то лабиринтам, — невольно хочется позади себя разматывать катушки ниток, иначе из этой пещеры и не выберешься. То гулкий простор, то узкая горловина, через которую надо проползти по-пластунски. В тусклом свете горит трофейный кабель.
Увидели людские тени.
Худоплечий — он, оказывается, исполняет обязанность комиссара отряда — представляет нас партизанам. И сразу голоса:
— Выводите нас отсюда!
— Тут живая могила.
— Придет командир — выйдем! — кричит комиссар.
Мы с Домниным переглянулись, и я тут же дал приказ:
— Выйти всем из пещеры.
Ко мне подошла высокая девушка с решительными глазами:
— Я медицинская сестра Надежда Темец! У меня есть раненые, им нужно тепло.
— Будет тепло, Надя! — успокаивает ее Домнин.
Она недоверчиво смотрит на него и потом, улыбнувшись, спрашивает:
— И марлю дадите?
— Постараемся.
Вышли на свет божий. Лица бледные, но живые. Тут, на мой взгляд, меньше отчаяния, чем у севастопольцев; да оно и понятно: отряд не пережил такую трагедию, хотя и ему досталось по первое число. [231]
За перевалом находим тихую поляну, строим шалаши. Я делюсь тем, что когда-то увидел у Македонского... Бахчисарайцы расчищают от снега площадку, в центре роют яму для костра, на три метра от ямы вбивают восемь кольев, образуя квадрат. На колья натягивают плащ-палатки, а на полметра ближе к костру еще восемь кольев повыше, к которым прикрепляют концы палаток. Одна палатка служит дверью. В таком легком жилище сравнительно тепло, и в нем могут расположиться двадцать партизан.
Строим — получается, разводим костер — тепло отдается от палаток и греет спину. Хорошо!
Главный наш сюрприз — партизанская баня! Тут сгодилась бортниковская выучка. Стоит о ней сказать. Снежная поляна, на ней восемь жарких костров из граба. Они бездымны. Час горения — и снег, вокруг тает, земля подсыхает, и можете между кострами купаться, как под доброй крышей. Жарко, удобно и воздуха — на все легкие: дыши!
Домнин — главный кочегар. Он выкладывает костры, поджигает их, как заправский добытчик древесного угля. Он первым сбрасывает с себя одежду — и плюх на себя ведро чуть ли не кипятка.
Я не выдерживаю, влетаю на площадку между двумя пылающими кострами, кричу:
— А ну, поддай!
Кто-то обливает меня до жути горячей водой, я вскрикиваю и начинаю выкамаривать какой-то танец, который в нынешнее время приняли бы за твист.
Худоплечий комиссар смотрит на нас, как на сумасшедших, кривится в улыбке, но наш азарт его не трогает. Однако ему не удается остаться в стороне, мы силком тянем его в кучу.
Перемыли всех до одного, а вот накормить было нечем. Правда, кое-какой запасец конины был, но комиссар никак не хотел отдавать его без командирского приказа.
Заставили отдать, утешив обещанием, что завтра кое-что мы выделим для отряда.
Мы не ахти что совершили, и все-таки какая-то искорка надежды пробежала через партизанские сердца.
Среди партизан я увидел знакомого пограничника: начальника Форосской заставы Терлецкого, того самого, что был ко мне придирчив у Байдарских ворот.
Он меня, конечно, узнал, но, как и приличествует дисциплинированному человеку, держался в стороне.
— Здравствуйте, товарищ Терлецкий.
Он четко приложил руку к козырьку пограничной фуражки, на которой не было ни единого пятнышка.
— Здравия желаю, товарищ командир района!
— Посидим, — пригласил я.
Он стоял по команде «смирно». [232]
— Как партизанится?
— Плохо! — Ответ решительный, глаза стального оттенка — на меня.
— Объясните.
— Много отсиживаемся, мало бьем фашистов.
Третья встреча у меня с ним, и все так уставно, словно экзамен сдаем по строевой дисциплине.
— Как вас величают по имени и отчеству?
— Александр Степанович.
Я подошел ближе, тронул его за рукав обгоревшей, но аккуратно заштопанной шинели:
— Есть у вас что-нибудь конкретное?
— Прошу разрешить напасть на фашистскую батарею у деревни Комары!
— Там линия фронта?
— Не совсем. Подступы отличные, знаю каждую тропинку.
Развернули карту, и Терлецкий точным военным языком доложил все, что знал о батарее, добавил:
— Убрать ее надо, товарищ командир района. Она бьет по Севастополю.
Чувствую: Терлецкий уже давно в мыслях совершил эту дерзкую операцию.
Спрашиваю:
— Когда будете готовы к выходу?
— Через час.
— Сколько людей надо?
— Пять пограничников.
— Действуйте!
Двое суток ждали Терлецкого. Я сомневался: вряд ли фашисты, допустят до Комаров. Хотя надежды не терял, особенно после того, как поближе познакомился с группой, которой командовал Терлецкий. Тут народ был боевой, походивший по тылам со своим командиром. Домнину пришлось даже удивиться: партизаны выпускали собственную газету, в которой высмеивали своего товарища за неряшливость. Будто дело обычное, удивляться тут нечему, но в такой обстановке люди думали о чистоте не только душевной, но и телесной.
Волосы у солдат подстрижены, щеки побриты, даже ногти содержатся в порядке.
В отряде нет комиссара. А почему им не может стать младший лейтенант Терлецкий, человек характера, видать, крутого, но умеющий работать с людьми? «Да, именно работать», — утверждает Виктор Никитович, и я не могу с ним не согласиться.
Вот сжатое изложение похода Терлецкого на батарею.
Методично, через равные промежутки времени, ухают немецкие орудия. Вспышки тревожат ночь; воздух, как живой, [233] перекатывается по ущелью, с силой бьет в лицо, В небо взлетают ракеты, часто татакают пулеметы.
Рядом бродит одинокий луч прожектора с иссиня-розовыми краями.
Терлецкий, прижимаясь к холодной жесткой земле, ползет по увядшим травам с терпким талым запахом. Когда луч погас на мгновение, партизаны перемахнули через проселочную дорогу и нырнули под колючий можжевельник.
Тишина была долгая, томительная, но вот снова ударили пушки, — прямо над ухом четырежды раскатисто лопнул сжатый воздух.
Терлецкий увидел, как в отсветах выстрелов у орудий копошились немецкие артиллеристы, посылая на Севастополь снаряд за снарядом.
— Скорее, — прошептал Терлецкий.
Партизаны поползли, а потом залегли у самых пушек, передохнули и бесшумными тенями подобрались вплотную к расчетам. Пахло угаром. Терлецкий вложил в противотанковую гранату капсюль.
— Файер! — кто-то скомандовал над самым ухом.
И через миг ударила пушка, другая, третья, четвертая...
Терлецкий ждал новой команды. На этот раз она раздалась без промедления:
— Файер!
Граната Терлецкого ударилась о лафет и отлетела под ноги наводчика. Терлецкий отпрянул от земляной насыпи. Взрыв догнал его за кустом и с размаху бросил на землю. Он поднялся... Опять взрыв... Он качнулся, но устоял на ногах.
Еще дважды ночной воздух содрогался от партизанских противотанковых гранат.
Четыре автомата полоснули свинцом в темноту, и только тогда ожила долина от криков, трескотни автоматов, беспрестанно взлетавших в бархатное небо ракет.
— Пошли, хлопцы, — сказал Терлецкий и увел партизан по тропе, известной только ему.
...Рапорт Терлецкого был краток, как и его подход под Комары. Доложил, козырнул и замер.
— Молодцы! — говорю ему.
— Служу Советскому Союзу!
— Отдыхайте.
— Есть! — Поворот и твердым шагом прочь в группу.
— Так просто? — смотрю на Домнина.
— Созрело.
— И все же...
— Не удивляйся. За ним особый подвиг — Байдарские ворота.
— Неужели он? — Я ахнул.
— Точно. [234]
...Тогда немецкие полки и дивизии рвались к Севастополю, Шли по шоссейным дорогам, просачивались через тропы, перевалы и ущелья, искали любую лазейку — лишь бы скорее обложить город с суши. Вдоль берега горели курортные городки и поселки, от их отсветов пламенело море.
На «Чучеле» кто-то прикидывал:
— Ох, у Байдарских ворот придержать бы их!
— У тоннеля?
— Конечно! Там двумя пулеметами можно батальон уложить.
А через день или другой — не помню — народ лесного домика был взбудоражен: какие-то пограничники у Байдарских ворот такое натворили, что и поверить трудно. На целые сутки задержали немецкий моторизованный авангард. Трупов там — не счесть.
...Александра Терлецкого — начальника Форосской пограничной заставы — срочно вызвали к командиру части майору Рубцову.
— Где ваша семья, младший лейтенант?
— Эвакуирована, товарищ майор.
— Хорошо. Отбери двадцать пограничников и явись с ними ко мне.
Никто не знал, зачем их выстроили так внезапно. Командир части лично обошел строй, посмотрел каждому в глаза.
— Мы уходим, а вы остаетесь. Будете держать немцев у тоннеля целые сутки. Запомните — сутки! И сколь бы их ни было, держать! Кому страшно — признавайся!
Строй промолчал. Командир дал время на подготовку, на прощание отвел Терлецкого в сторонку:
— Ежели что случится, Екатерину Павловну и Сашкá будем беречь. Иди, Александр Степанович.
В тесном ущелье гудят дальние артиллерийские взрывы — бьется Севастополь. На каменном пятачке, нависшем над пропастью, стоит табачный сарай — толстостенный, из звонкого диорита.
Внутри пусто, под ветерком играет сухой табачный лист, шуршит. Только на чердаке едва слышны голоса — там пограничники.
Кто-то подходит к сараю, стучит прикладом в дверь. В ответ — ни звука.
Неожиданная автоматная очередь прошивает дверь. Узкие пучки света от карманных фонариков обшаривают темные уголочки.
Немцы входят скопом. Дышат повольнее, тараторят, рассаживаются.
Медленно подползает рассвет.
Глаза с чердака пересчитали солдат. Их было восемь — рослых, молодых, без касок, с автоматами на животах. Они слали. [235]
За стенами, подпрыгивая на сизых камнях, шумела горная вода, далеко на западе просыпался фронт.
В этот уже привычный шум стали осторожно вплетаться новые звуки — немецкие машины ползли к тоннелю.
С чердака полоснули автоматной очередью — ни один солдат не поднялся.
— Забрать оружие, документы! — Терлецкий первым спрыгнул с чердака. — Убрать, прикрыть табаком!
Никакого следа не осталось, лишь под ветерком, как и прежде, играет сухой табачный лист, шуршит.
Светло. Терлецкий посмотрел на тоннель, ахнул: ночной взрыв оказался не ахти каким сильным.
Показал своим пограничникам:
— Плохая работа! Вы меня поняли?
Ниже тоннеля остановились бронетранспортеры, из них высыпали солдаты.
— Вы меня поняли? — еще раз спросил Терлецкий и лег за пулемет, установленный на чердаке. — И тихо!
— Иоганн! — голос снизу.
— Не стрелять! Подойдет — штыком. Бедуха, тебе поручаю.
— Понял.
— Иоганн! — голос у самых дверей.
Двери скрипнули, приоткрылись, показалась каска и тут же скатилась на желтые табачные листья.
Мотопехота подходила к тоннелю. Солдаты сбились, начали отшвыривать камни.
Одновременно ударили два пулемета. Те, кто был у тоннеля, удрали. Остались лишь убитые и раненые.
Пулеметы строчили по транспортерам.
...Прошли сутки. Уже на табачном сарае ни чердака, ни дверей. Остался каменный остов, остались в живых пять пограничников с Форосской заставы.
Терлецкий, черный от гари, в изорванной шинели, лежал за последним пулеметом.
— Десять гранат, два набитых диска, товарищ командир, — доложил сержант Бедуха.
Подошли танки. Орудия — на остов сарая. Ударили прямой наводкой.
Пограничники выскочили до того, как новый залп до основания срезал всю правую часть сарая.
...К начальнику штаба Балаклавского партизанского отряда Ахлестину ввели пять пограничников — опаленных, с провалившимися глазами, едва стоявших на ногах. Один из них, высокий, сероглазый, приложив руку к козырьку, отрапортовал:
— Группа пограничников Форосской заставы из боевого задания... — Пограничник упал. [236]
— Так это вы держали Байдарские ворота? — спросил Ахлестин, поднимая Терлецкого.
...Александр Терлецкий стал комиссаром Балаклавского отряда.
Теперь нам предстоит труднейшее: встреча с командиром Акмечетского отряда Кузьмой Никитовичем Калашниковым.
Пока Терлецкий ходил на Комары, а мы поджидали его, балаклавцы послали своего делегата к Калашникову за солью. Не дал, человека и в лагерь не пустил, ни единым сухариком не угостил.
Нас останавливает патруль, требует пароль. Но мы не знаем его. Ко мне подходит человек в черной шапке; наставляя винтовку, командует:
— Сдать оружие!
К счастью, меня узнает один из патрульных: он видел, как я гостевал в калашниковской землянке в свой прежний приход.
Нас ведут под конвоем.
Навстречу сам Калашников.
— О, гости, рады, рады. — Кузьма Никитович протягивает теплую ладонь, а глаза в ожидании: с какой новостью пришел к нему, за каким чертом привел севастопольского комиссара? Для блезиру спрашивает у Домнина: — Как житушка, сосед?
— Твоими молитвами, Кузьма Никитович. А вы как?
— А мы перед своим начальством отчет будем держать, — он кивает на меня, все еще думая, что я начальник штаба Четвертого района.
— Теперь нет соседей, товарищ Калашников, а есть вот что, — даю приказ Мокроусова, где черным по белому написано, кому подчинен отряд и сам Калашников.
Молчание затягивается; наконец акмечетский командир переводит дыхание:
— Худо, будет всем.
Колоритен Кузьма Никитович: плотен, широкоплеч, по-мальчишески белобрыс, ноги, как у кавалериста, бубличком. Как ни щурит глаза, но спрятать затаенную хитрость в них не может...
— Решим так... — говорит Домнин, голос которого с каждым словом твердеет. — Пять мешков муки отдашь Севастопольскому отряду, два — Балаклавскому, мешок — штабу района. Это приказ.
Я дополняю:
— Штаб будет располагаться у тебя под боком. Десять партизан на охрану, троих на связь. И чтобы боевые...
Мне где-то и жаль Кузьму Никитовича.
Калашников разводит руками: [237]
— Откуда у меня мука, товарищ комиссар!
Он продовольственные базы рассредоточил так, что самый опытный предатель обнаружить их не смог бы. И все же Домнин знал — продукты есть, иначе скупой Калашников так щедро не кормил бы своих партизан. А кормил он по тем временам сытно. И нас сейчас потчует недурно, и землянка у него теплая, и вообще в отряде порядок, достойный хозяйственного человека.
Калашников партизанит семьей. Только природный ум, смекалка позволили ему почти под носом у врага жить без больших происшествий, жить и сохранить боевой состав, базы. Тот кровопролитный бой с фашистами, когда каратель и партизан стояли за деревьями с глазу на глаз, Кузьма Калашников принял в пяти километрах от собственного лагеря, там потерял более десяти партизан, оттуда приволок одиннадцать раненых и тихо их выходил.
Это все же было удивительно: существовать в двадцати километрах от переднего края, насыщенного войсками, иметь с начала декабря соседей — севастопольских партизан, на пятки которых беспрестанно наступают каратели, мало того — быть рядом, всего в четырех километрах от Коккоз, крупного гарнизона врага, и оставаться там, где начинал партизанскую борьбу. Три с лишним месяца прожить под носом у гитлеровцев, и прожить в теплых землянках, с пищей и санитарным пунктом.
Как это удалось?
Из многих источников, которые сейчас стали известны, есть основание предположить, что майор Генберг знал о существовании отряда Кузьмы Калашникова. Почему же он не трогал его?
Да потому, что был уверен в его бездействии.
А отряд воевал, однако с калашниковской хитрецой. Корень его тактики: бить фашистов там, где бьют их севастопольские партизаны, не обнаруживать перед противником своего существования.
Он снаряжает партизан в засаду, прикидывает так и этак, но больше присматривается к соседям: где они вчера бабахнули фашистскую машину? Ага, под Шурами! Туда он и посылает своих да наказывает: идти по натоптанным тропам и отходить по ним. Своего следа не должно быть.
Существовал мокроусовский приказ под номером восемь. Подписан был он в начале декабря 1941 года, и в нем имелся главный пункт: каждый партизанский отряд в течение месяца должен совершить не менее трех боевых операций! Это железный закон! Откуда взята такая норма — неизвестно, и почему именно такая — непонятно, но приказ был доведен до каждого отряда, в том числе дошел и до Калашникова.
Кузьма Никитович шел по нему как по натянутому канату: и ни влево, и ни вправо. В декабре три операции, в январе — [238] три. Сейчас февраль, и наметка у Калашникова прежняя: три операции!
Акмечетцы пришли в лес из далекого Тарханкута, стороны ветра, полынной степи. Отряд состоял из молчаливых степняков, знаменитых чабанов, которые больше общались с небом, степью, солнцем, чем с человеком, — людей, никогда и никуда не спешащих.
Они оказались в горах не по своей охоте, хотя в партизаны пошли добровольно, мечтая бить фашистов не сходя с места, в степи, но попали в горный край полуострова.
Им назначили командира — Кузьму Калашникова, комиссара — секретаря райкома партии Анатолия Кочевого, вооружили, снабдили продовольствием и приказали: «Следуйте на Южный берег — это километрах в ста тридцати от того района, в котором вы родились и жили, — ищите место для стоянки отряда и базируйтесь».
Вот и оказались они у Чайного домика, никогда не видавшие ни гор, ни лесов. Им еще повезло: у них командир — голова, цепкий человек.
И еще в одном повезло: народ был свой, знающий друг друга. Из отряда никто не бежал и никаких тайн врагу не принес.
Я все это говорю к тому, что тогда у меня было такое ощущение, что акмечетцы никогда не приспособятся к лесной жизни, что из них получились бы настоящие партизаны не здесь, а там, на просторах Тарханкутской степи, на берегу Каркинитского залива с его глубокими пещерами, древними колодцами, хуторами и кошарами.
На Тарханкуте в конечном счете было партизанское движение, но возникло оно стихийно, без того главного костяка, который отсиживался в глухом углу Чайного домика.
Калашников и комиссар Кочевой сразу же смекнули, и это делает честь их прозорливости: отряд сам по себе боеспособным стать быстро не сможет, его надо без промедления подпирать настоящими солдатами, понюхавшими пороху, бывавшими в переделках.
Шло отступление на Севастополь; по лесным тропам, горным дорожкам отходило немало бывалых людей: и матросы, и кавалеристы, и пограничники. Ближе и понятнее были последние: тарханкутцы знали их по службе на заставах у себя на родине. А тут подвернулся начальник именно Тарханкутской заставы — старший лейтенант Митрофан Зинченко. У него человек двадцать хлопцев как на подбор, да при автоматах, пулеметах, таких бравых, будто только что вышли на строевой смотр.
Позже, в декабре 1941 года, в отряд пришел политрук пограничных войск Алексей Черников во главе солдат, вооруженных автоматами, двумя ручными пулеметами и одним минометом. [239]
Так и сколотилась главная боевая сила Акмечетского отряда.
В своих рапортах в штаб района Кузьма Калашников не отделял степняков от пограничников, а писал примерно так: «Группа партизан под командованием товарища Зинченко взорвала немецкий грузовик, убила десять солдат, взяла трофеи: два автомата, три винтовки и разную мелочь».
Степняки кормили пограничников, несли охранную службу, рыли утепленные землянки, смотрели на своего командира как на бога и спасителя, понимали его с полувзгляда.
Калашников был глазаст, тайно наблюдал за селами, что окружали лес. Был у него один наблюдательный пункт под названием «Триножка». Это высокий пик над лесом, возвышающийся над всей Коккозской долиной.
На самой вершине «Триножки» стояли развалины древнейшей крепости.
На «Триножку» вела единственная тропа, которая шла по кромке острого хребта. Поставь на вершину два пулемета — и даже дивизией не достичь крепостных развалин.
Но Калашников пулеметов не ставил, а вот телефонную связь из «Триножки» провел в собственную землянку и все, что творилось в долине, в десятках окружающих сел, узнавал через минуту. И это давало ему непревзойденное преимущество — неожиданностей для Кузьмы Калашникова не существовало.
Знали ли фашисты о «Триножке»? Конечно! А догадывались ли, что там партизанский наблюдательный пункт?
Каждую неделю из небольшой горной деревушки Маркур выходили немецкие разведчики, нащупывали единственную тропу, поднимались на развалины древней крепости и... ничего не находили. Никаких следов пребывания партизан.
Куда же исчезал наблюдательный пункт?
И тут сказалась калашниковская живучесть.
Наблюдателей было трое, один из них постоянно смотрел за Маркуром — только оттуда можно попасть на тропу, ведущую на «Триножку». Стоит группе немцев показаться в кривом переулке, откуда и начинается тропа, и сразу же звонок к Калашникову:
— Идут!
В ответ приказ:
— Сгинуть!
Отсоединяется кабель, прячется, тщательно осматривается площадка — чтобы никаких следов; потом партизаны спускаются в подземелье, отодвигают большой камень, закрывающий тайный ход, исчезают в провале, не забыв поставить камень на место.
Немцы на «Триножке», но тут, как и прежде, тишина, посвист ветра, а вокруг синие дали. [240]
Часок потолкаются, для самоуспокоения постреляют в небо и торопятся восвояси. Как-никак, а край партизанский, лучше подобру-поздорову вовремя уйти.
Калашниковские наблюдатели незримо сопровождают немецких разведчиков, но не трогают их.
Именно с «Триножки» предупредили о карателях, что шли в декабре на большой «прочес». Калашников убрал отряд, замел следы и принял бой там, где принимали его партизаны Красникова.
Хитер командир Акмечетского отряда!
Мы в землянке пограничников Митрофана Зинченко.
Сам командир встретил нас уставным рапортом. Я, откровенно говоря, не приучен к таким докладам, но здесь пришлось выслушать его по всей форме.
В землянке просторно, удобно, пахнет горными травами. Лежанки, ароматное сено, кустарная, но удобная пирамида для оружия.
Партизаны-пограничники — в гимнастерках, сапогах, животы туго подобраны, все до одного бритые, мытые. Да вправду ли мы в партизанском отряде?
— Здравствуйте, товарищи!
— Здравия желаем, товарищ командир района!
Восемнадцать солдат и один командир.
Вспоминаю редкие калашниковские рапорты в штаб Четвертого района: «Отличились партизаны Бедуха, Кучеров, Малий...» Наверняка они здесь, отличившиеся, хотя Калашников никогда не писал о них как о пограничниках.
— Бедуха!
— Есть сержант Бедуха! — докладывает белобрысый парень.
— Малий!
— Я Малий! — Партизан с рябоватым безбровым лицом.
Да, я прав. Герои акмечетцев здесь, не где-нибудь в другом месте. Я пристально всматриваюсь в лица. Не шибко сытые они: щеки подзапавшие, подбородки острые. Интересно, на каком пайке держит их Калашников? Щедро или по правилу — «будешь живой, но худой»?
— Ваш дневной паек? — спрашиваю у сержанта Бедухи.
— Две лепешки и полфунта конины.
Не жирно.
Вдруг мысль: а не взять ли всю команду в штаб? Вот и будет отличный комендантский взвод. За такими ребятами как за широкой спиной.
Но нужно ли?
Интересно, а какие планы у самого Зинченко? [241]
— Продолжать службу, — говорю я и усаживаюсь за импровизированный стол.
Партизаны расходятся, Зинченко усаживаю рядом с собой.
Сейчас он расслабил плечи, стал проще, понятнее.
— Как живете, Митрофан Никитович? — спрашиваю обыденно.
— Ни шатко ни валко. Надумаю много, а до дела не дохожу.
— Что мешает?
— Многое... — Он смотрит в мои глаза.
Я понимаю его.
— Какие же планы у тебя, старший лейтенант?
— Думал напроситься на рейд в Коккозскую долину.
— И что же?
— Калашников не пускает.
— Почему?
— Осторожничает.
— Может, правильно поступает?
— Нет! Фашисты оседлали долину, напичкали ее тыловыми службами и в ус не дуют. Они не боятся нас. Надо заставить бояться!
До предела ясен Зинченко, и мне эта ясность по душе. Впервые за последнее время я испытываю нечто похожее на радость.
— Что ж, Митрофан Никитович, подумаю. Мне, например, твой план по душе.
В это время в землянку вбежал шустрый дед с прокуренной рыжей бородкой полулопатой. К густоволосой голове по-смешному приложил руку:
— Пробачьте, товарышы начальники...
Это же дед Кравченко! Помните тот случай, я говорил о нем в первой тетради, когда мы обманным путем забрались в его одинокий лесной дом? И пустил он нас с надеждой добыть спиртного, но ничего у нас такого не было.
— Здравствуй, дед! Каким манером оказался здесь?
— Куды ж мэни диваться? 3 цим проклятым нитралитетом чуть було без башкы нэ остався... Як тилькы вы пэрэночувалы, так и пишло... Прыйшов гэрманэць и давай з мэнэ душу трясты... Гыком, як цуценята, на мэнэ бросылысь... «Дэ Ялтыньскый отряд? Дэ Бортников, дэ Мошкарин?» Пытають, за бороду хватають... Кажуть: дэнь, ничь — и шоб отряд я найшов, а то пук-пук, а хауз, мий дом, значыть, — бах, — и гранату показують... Зайнялы мий дом, а одын — гадюка — в чеботях на кровати розвалывся. Мэнэ из хаты выгналы, кажуть: «Давай партизан». Помэрз я до вэчора на камнях, та всэ дывывся на свою хату. 3 трубы дым идэ, а я, як бездомна собака, на холоди зубами клацаю... К утру взяв фатаген{3} да и облив хату. Пожалкував [242] трохы, тай пидпалыв. Пропадать так пропадать... Загорилась хата, а я до товарища Мошкарина. Вин мэнэ и послав в Акмечетский отряд, хотив з ним буты, да вин сказав: «Богато брешешь».
— Как же здесь партизанится?
— На повну катушку!
У деда явное намерение поговорить поосновательнее, но мы ему это не позволяем и отпускаем.
Зинченко, улыбаясь, говорит:
— Занятный старик. Не жадный, но любит поклянчить, производить всякие обмены, похожие на обман, надует от души — вины не признает. Выдумщик страшный и готов на все, лишь бы обратить на себя внимание.
— Нашел себя в отряде?
— А он ничего не терял, товарищ командир, он всегда при своих. Мы к нему пришли, это его лес, он вырос в нем.
— Пожалуй, правильно.
— Ему все здесь знакомо. И следопыт настоящий, и нюх, как у хорошего пограничника.
Мне по душе зинченковская обстоятельность. Зрелый человек. Вот кого командиром Севастопольского отряда!
Однако не надо спешить, пусть-ка исполнит свой план: рейд по Коккозской долине.
Переговорил с комиссаром. Домнин со мной полностью согласился.
И он и я поставили точную цель: возродить Севастопольский отряд, сделать его действительно севастопольским, достойным имени славного и героического города.
Познакомился я и с Алексеем Черниковым. Это был рослый, угрюмоватый политрук пограничных войск, медлительный, склонный к долгим размышлениям.
Общее с Зинченко одно — традиция солдат, которые всегда в строю, и в мирное и военное время.
Более или менее ознакомился с составом района, с командирами, часами наблюдал за Коккозской долиной. Зинченко прав: немцы тут совсем обнаглели.
Обстановка вокруг приблизительно прояснилась. Пора действовать!
Как? Можно ли продолжать линию Красникова и держать отряды на пятачке у Чайного домика? Или немедленно вывести их в район трехречья, где мне все близко и знакомо?
Я и комиссар обстоятельно взвешиваем все «про» и «контра».
Первая задача: связаться с Севастополем! В любых случаях мы это обязаны сделать.
В принципе нам нельзя здесь оставаться. Так или иначе, но каратели будут блокировать наш район. Это сделать не так трудно, сама природа постаралась: вокруг обрубленные кручи, [243] выходов — раз-два, и обчелся. Мы не можем жить в постоянном окружении, нам нужна отдушина, нужен верный тыл. Его можно создать только в заповедных лесах, там, где сейчас располагаются партизаны двух других районов.
Значит, марш по яйле!
Но можно ли вот сейчас поднять отряды и повести их по ледяной шестидесятикилометровой дороге? Дойдут ли они?
Акмечетцы дойдут, остальные — нет! Ведь дойти надо за одну лишь ночь!
Партизаны физически ослабли, морально подавлены событиями на Кожаевской даче, гибелью боевого костяка района.
Окрепнуть физически, морально. Но этого мало. Важно, какими путями этого добиться. В один присест разделаться с калашниковскими продуктами, отлежаться в сухих шалашах и марш на яйлу? Ничего из этого не выйдет. Продуктов мало — раз; бездействие еще больше разрушит потенциальные силы партизан — два; так запросто оторваться от Севастополя, не сделав для него ничего важного, — значит струсить перед сложившимися обстоятельствами — три!
Начинать надо с активных боевых действий. Зинченко в рейд, Терлецкого в Байдарскую долину!
Еще больше внушать делами и словами: мы и Севастополь — едины; прикажет Севастополь — пойдем в заповедник, нет — до последнего будем драться здесь!
Комиссар собрал коммунистов, и я обстоятельно доложил обо всем, что тревожило штаб, попросил коммунистов высказать свое мнение.
Откровенность была полная: в таких обстоятельствах человек выкладывается без оглядки. Коммунисты говорили о том, о чем думали, что их беспокоило.
Мы с Домниным были удовлетворены: наши планы в основном совпадали с тем, что предлагали коммунисты. Мы не могли говорить о них с полной ясностью — оперативная тайна, но мы согласились с тем, что нам подсказывали.
С гибелью первого комиссара района Василенко партийно-политическая работа в отрядах не проводилась. Иным казалось: до нее ли? Но Домнин считал: в любом случае «до нее». Сам комиссар был начисто лишен ораторских способностей, он хорош в камерной беседе, в разговоре с глазу на глаз. Здесь у него живые душевные струны, и он чувствует, что нужно человеку.
Однако все это не мешало ему добираться до сердец масс, и добирался он своим путем.
Как-то на Адымтюре наши разведчики подобрали ослабевшего человека в советской сержантской форме, привели в штаб.
Парня накормили, стали расспрашивать. Он первым делом разулся и из-под стельки достал партийный билет, завернутый в противоипритовый пакет. [244]
Сожалею, что запамятовал фамилию севастопольского солдата.
Парень был на батарее Заики, которая первым залпом оповестила мир о начале севастопольской эпопеи.
Известные герои Анисимов и Нечай были его однополчанами.
Это первый человек среди нас, который знает все о боях под Севастополем.
Домнин ходил с сержантом из землянки в землянку, от шалаша к шалашу, и партизаны слушали рассказ севастопольца, человека, который встретил фашистов на просторах качинских степей.
Ярко и образно говорил сержант. Я до сих пор помню каждое его слово. Оно как бы приобщило меня к тому, что делалось на батарее, на линии боя.
...За лето выжженные палящим солнцем бурые качинские степи с разноцветными заплатами виноградников, плешивыми холмиками и дорогой, заезженной машинами, тачанками, солдатскими двуколками. На западе, сколько видит глаз, — море, бурливое, иссиня-темное.
Утро. На пыльной дороге — никого. Такая тишина, что слышно, как пищат суслики и под ветерком шелестят высушенные добела травы.
За небольшим курганчиком, в бетонном доте, скрытом от самого наблюдательного глаза, притаились сержанты Анисимов, Нечай и наш разведчик Костя.
— Не по душе тишина, — говорит Анисимов, не спуская глаз с туманной дали.
— Мабудь, сьогодни и почнэться, — басит Нечай, прижав ухо к телефонной трубке. — Костя, а ну подывысь.
Смотрит Костя до боли в глазах, видит желтые полосы и дорогу до самого горизонта, на которой ни единой точки.
Солнце достигло зенита и начало медленно клониться к морю. Небольшая тучка с востока подкралась, будто невзначай бросила на землю несколько крупных капель и умчалась в далекое многогорье, туманящееся на востоке.
Кругом ни звука, ни шороха. Лежит дорога, избитая, истоптанная отступающими на Севастополь. Лежит, словно в раздумье, как ей принять на себя бронированную тяжесть чужих войск. А они уже катятся из северной Таврии, их душное дыхание чувствуется каждой клеточкой.
После полудня небо почернело, ожило, взвихрился воздух. Многоэтажным строем на Севастополь шли пикировщики, а вокруг них каруселили истребители, как мошкара вокруг шмелей.
— Смотри в оба! — крикнул Анисимов, до белизны пальцев сжимая кулак, лежащий на стальном теле тяжелого орудия.
Через несколько минут Костя повернул к товарищам побледневшее лицо. [245]
— Идут, — с придыханием сказал он, показывая на пыль, клубящуюся вдали.
Черное облако катилось по земле со стороны Сакских озер. Скоро сквозь серую мглу стали выползать тяжелые танки. Они шли, ощупывая каждый метр затаившейся степи.
Командир батареи лейтенант Заика был еще с утра предупрежден, что авангард фашистов занял Саки и идет на Севастополь.
Береговая батарея располагалась, если можно так сказать, в узле самых уязвимых естественных подступов к Севастополю, Широкие поля для танковых атак, буераки для пехоты, холмы для артиллерии. Это был ключ к столице Черного моря, к ее Северной стороне.
Дважды пискнул зуммер телефона. Лейтенант взял трубку. По тому, как приподнялись у него брови и вздрогнула щека, рядом стоящий комиссар батареи понял, что решающая минута наступила. Он только спросил:
— Много их?
— Пока десять танков, семьдесят машин, около четырехсот солдат.
За батареей над городом — тяжелые взрывы.
— Бомбят Севастополь, скоро нас атакуют... Я иду к расчетам, — сказал комиссар, надел каску и вышел.
— Батарея, к бою! — Телефон разнес приказ командира по всем железобетонным отсекам, а Костя подтвердил его, бегая от орудия к орудию.
Через двадцать минут раздался первый залп. Он возвестил всему фронту о начале героической обороны города русской славы — Севастополя. Произошло это 30 октября 1941 года в пятнадцать часов тридцать минут по московскому
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| НАЧШТАБА 9 страница | | | ЗА БАСМАН-ГОРОЙ 1 страница |
Дата добавления: 2015-06-30; просмотров: 274; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!