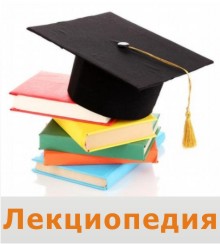
Главная страница Случайная лекция

Мы поможем в написании ваших работ!
Порталы:
БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика

Мы поможем в написании ваших работ!
Баратынский Евгений Абрамович (1800-1844)
Он был одним из первых поэтов «новой» пушкинской «школы» и стал одним из ее последних поэтов. В «союз поэтов» он входит в 1819 г. Исключенный из Пажеского корпуса за непозволительную мальчишескую шалость, он появляется в Петербурге осенью 1818 г., знакомится с Бестужевым и Дельвигом, с которым и поселяется вместе; их беспечная полунищая поэтическая жизнь была описана ими в пышных гекзаметрах:
Шли они в дождик пешком, в панталонах трикотовых тонких, Руки спрятав в карман (перчаток они не имели!). («Там, где Семеновский полк...», 1819)
Дельвиг и приобщил Баратынского к профессиональной литературе, — по преданию, напечатав его ранние опыты без ведома автора. Много лет спустя Баратынский вспоминал, каждый раз с новым беспокойством, о мучительном ощущении, которое он пережил, узнав о своем посвящении в цеховые поэты. Вместе с тем он сохранял и благодарность Дельвигу. «Ты ввел меня в семейство добрых муз», — писал он ему («Дельвигу» — «Дай руку мне, товарищ добрый мой», 1822). Дельвиг познакомил Баратынского с Кюхельбекером, Плетневым и Пушкиным. Сближение происходит быстро; уже в феврале 1819 г. связи Баратынского с лицейским поэтическим кружком довольно тесны.
Эти связи сказываются в поэтическом творчестве Баратынского появлением «античных» эпикурейских мотивов. Баратынский воспевает «пиров веселый шум» и «пыл вакхической отваги» («Моя жизнь», 1818—1819). Тема гедонистического упоения жизнью с ее скоропреходящими радостями в его ранних стихах звучит настолько сильно, что через три-четыре года пародисты «Благонамеренного» изберут его в качестве своей главной мишени в борьбе против романтической школы. Однако отправлялся Баратынский не от романтиков. Еще в 1824 г. Дельвиг писал Пушкину о «холоде и суеверии французском» в его дидактических стихах. «Что делать? Это пройдет! Баратынский недавно познакомился с романтиками, а правила французской школы всосал с материнским молоком». Ранний Баратынский был наиболее «классичен». Он воспринял от французской «лёгкой поэзии» и элегии XVIII в. виртуозное изящество композиции, её рассчитанную замкнутость, с пуантирующими концовками, с антитезами и парадоксальным течением поэтической мысли. Всё это — признаки «антологической поэзии», как её понимал французский XVIII век. Если Дельвиг в своей «антологии» чем дальше, тем больше стремился воспроизвести строй поэтического мышления древних, то для Баратынского античный реквизит — скорее поэтическая условность, метафора, факт стиля, а не культурной типологии, к которой он довольно безразличен. Современный лирический герой со строем мыслей и чувств 20-х гг. XIX в. постоянно просвечивает сквозь античный или «оссианический» флёр его ранних стихов, иногда обнаруживая своё присутствие почти пародийно-демонстративно:
Марс, затянутый в штиблетах, Обегает уж ряды... («Дельвигу», 1819)
Эти строки пишутся уже в Финляндии, где Баратынский служит в армии в чине унтер-офицера (всякая иная служба была ему запрещена). «Штиблеты» контрастируют не только с аллегорическим «Марсом», но и с «северной» экзотикой финляндских стихов. Но и самая экзотика не выдерживается с этнографической точностью, — и здесь принцип, а не небрежность. Когда позднейшая критика упрекала Баратынского за смешение разных культурных комплексов — «финского», «оссианического», «скандинавского», — упрёк был не вполне справедлив. Для Баратынского не было существенным то, чему придавала большое значение романтическая поэзия, — единство местного и исторического колорита.
Связи с классической традицией обнаруживались и в жанровой принадлежности его ранних стихов. Именно к нему обращает Гнедич свой призыв писать сатиры, и Баратынский отвечает ему посланием в александрийских стихах — совершенно в духе классических посланий-сатир вольтеровского толка, обычных для русской поэзии 1810-х гг. («Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры», 1823). В подобной же сатире «в дидактическом роде» — знаменитом впоследствии послании «Богдановичу» (1824) — Дельвиг и находит воздействие «французских» образцов.
Вместе с тем — и здесь противники «новой школы» были правы — «классичность» Баратынского уже приобретала новые качества, не свойственные его предшественникам. В послании «Н.И. Гнедичу» (1823) он писал:
То, занят свойствами и нравами людей, // Поступков их ищу прямые побужденья,// Вникаю в сердце их, слежу его движенья// И в сердце разуму отчет стараюсь дать!
Баратынский очень точно определил те принципы, которым следовал, — более всего в своих элегиях, которые в начале 1820-х гг. создали ему литературную репутацию и явились новым словом в развитии жанра. Аналитизм Баратынского вырастал на рационалистической основе; он действительно «в сердце разуму отчёт старался дать», и это придавало его элегиям некоторую рассудочность, свойственную, например, французским моралистам типа Вовенарга, Ларошфуко или Паскаля. Многое он почерпнул и в девяти книгах элегий Парни, который в его интерпретации превращался из поэта эротического (так его воспринимал, в частности, Батюшков) в поэта психологического. Баратынского интересует становление и динамика психологических состояний, фазы любовного чувства. Эмоция его героя изменчива и противоречива. «Охлаждение», «разочарование» оказываются понятиями сложными и внутренне неоднородными. В его «Разуверении» (1821) эмоция героини взята по меньшей мере в третьей «фазе» (любовь или увлечение — охлаждение или равнодушие — «возврат нежности»); ответное чувство героя — также в третьей, но «неполной» (любовь — разочарование — «волнение», напоминающее об утраченной любви и именно поэтому особенно тягостное):
Не искушай меня без нужды// Возвратом нежности твоей:// Разочарованному чужды// Все обольщенья прежних дней!// Уж я не верю увереньям,// Уж я не верую в любовь,// И не могу предаться вновь// Раз изменившим сновиденьям!// Слепой тоски моей не множь,// Не заводи о прежнем слова,// И, друг заботливый, больного// В его дремоте не тревожь!// Я сплю, мне сладко усыпленье;//Забудь бывалые мечты:// В душе моей одно волненье,//А не любовь пробудишь ты.Конкретное сопоставление двух понятий оживляет оттенки значений.
Разнообразной становится и мотивировка состояний. Традиционная элегия вообще избегала мотивировать ситуацию: она задавалась изначально, и предыстория её, как правило, была для поэта несущественна. У Баратынского художественный акцент ложится на психологическую мотивировку, которая иной раз изменяет не только традиционно сложившуюся ситуацию, но и самый жанровый канон. Состояние героя рассматривается в некоей временной перспективе; оно есть следствие закономерной духовной эволюции. Элегия перестает быть статичной; она превращается в своего рода биографию героя в миниатюре. Одним из наиболее совершенных образцов такой биографии является «Признание» (1823), о котором Пушкин писал: «„Признание“ — совершенство. После него никогда не стану печатать своих элегий...».
Притворной нежности не требуй от меня:// Я сердца моего не скрою хлад печальный.// Ты права, в нем уж нет прекрасного огня// Моей любви первоначальной.// Напрасно я себе на память приводил// И милый образ твой и прежние мечтанья:// Безжизненны мои воспоминанья,// Я клятвы дал, но дал их выше сил.// Я не пленен красавицей другою,// Мечты ревнивые от сердца удали;// Но годы долгие в разлуке протекли,// Но в бурях жизненных развлекся я душою.// Уж ты жила неверной тенью в ней;// Уже к тебе взывал я редко, принужденно,// И пламень мой, слабея постепенно,// Собою сам погас в душе моей.// Верь, жалок я один. Душа любви желает,// Но я любить не буду вновь;// Вновь не забудусь я: вполне упоевает// Нас только первая любовь.// Грущу я; но и грусть минует, знаменуя// Судьбины полную победу надо мной;//Кто знает? мнением сольюся я с толпой;// Подругу, без любви - кто знает? - изберу я.// На брак обдуманный я руку ей подам// И в храме стану рядом с нею,// Невинной, преданной, быть может, лучшим снам,//И назову ее моею;// И весть к тебе придет, но не завидуй нам:// Обмена тайных дум не будет между нами,//Душевным прихотям мы воли не дадим:// Мы не сердца под брачными венцами,// Мы жребии свои соединим.// Прощай! Мы долго шли дорогою одною;// Путь новый я избрал, путь новый избери;// Печаль бесплодную рассудком усмири/ И не вступай, молю, в напрасный суд со мною.//Не властны мы в самих себе//И, в молодые наши леты,// Даем поспешные обеты,//Смешные, может быть, всевидящей судьбе.
Традиционная тема любовного охлаждения в отличие от «унылых элегиков» не столько описывает, сколько объясняет его. Угасание любовного чувства не есть следствие «вины», «измены» или даже «утраты молодости»; оно происходит само собой, силой времени и расстояния, потому что самая духовная жизнь подчиняется действию фатального и всеобщего жизненного закона. Это ощущение надындивидуального и непреодолимого начала — «судьбы», властвующей над личностью, придает элегиям Баратынского особую окраску философской медитации. В самом же тексте элегий эта идея сказывается в почти парадоксальном перемещении традиционной шкалы ценностей духовного мира. Своеобразное «рассудочное оправдание» получают не только охлаждение героя, но и «моральные преступления»: нарушение любовных клятв, измена первой любви, брак по расчету, — наконец, полное забвение. Все это — «победа судьбины» над героем и его мучительное эмоциональное умирание. Лирическая тема болезненно сопротивляющейся, но уступающей и угасающей эмоции сопутствует «голосу рассудка», элегия становится внутренне драматичной; резиньяция окрашивается в тона скорбного сожаления. В поздний период Баратынский вернётся к осмыслению этой ситуации — уже на уровне философского рассуждения — в превосходном стихотворении «К чему невольнику мечтания свободы» (1835), где идея надличной закономерности будет осмыслена не только как закономерность покорности, но и как закономерность эмоционального бунта:
...Не вышняя ли воля// Дарует страсти нам? и не ее ли глас// В их гласе слышим мы? О, тягостна для нас// Жизнь, в сердце бьющая могучею волною// И в грани узкие втесненная судьбою.
Всё это было литературным открытием Баратынского. Внутренний мир элегического героя решительно не соответствовал традиционным образцам; «классическая» основа деформировалась, на ней вырастал романтический психологизм. В этом была особенность эстетической эволюции Баратынского, которая далёко не сразу и не полностью была понята русскими романтиками разных поколений; и Бестужев, и позднее любомудры прочно связывали раннего Баратынского с наследием XVIII в.: диалектический анализ чувства представлялся им не новаторством, а скорее традиционализмом.
Расцвет элегического творчества Баратынского приходится на начало 1820-х гг. Вынужденное пребывание в Финляндии воспринимается им как изгнанничество, своего рода ссылка, подобная южной ссылке Пушкина; мотивы «унылой» элегии окрашиваются автобиографическими чертами:
И я, певец утех, пою утрату их,// И вкруг меня скалы суровы,// И воды чуждые шумят у ног моих,// И на ногах моих оковы. («Послание к б<арону> Дельвигу», 1820)
В этих строчках звучат уже и ноты общественной оппозиции. Баратынский отдаёт дань гражданской поэзии преддекабристского периода. До нас дошли сведения о политических стихах Баратынского начала 1820-х гг.; в большинстве своём они не сохранились, однако уже одна известная нам эпиграмма на Аракчеева «Отчизны враг, слуга царя» (1825) достаточно ясно характеризует его настроения в этот период. 1824 год — время наибольшей близости его к Рылееву и Бестужеву, и это сближение имеет и идейную основу. Однако «гражданским романтиком» Баратынский не стал; его мировоззрению был свойствен общественный скептицизм, который сказался и в его творчестве. На протяжении 1824—1825 гг. наступает взаимное охлаждение между ним и поэтами декабристского крыла Вольного общества. В 1825 г. Бестужев писал Пушкину, что «перестал веровать» в талант Баратынского.
Отзыв Бестужева касался «Эды» — «финляндской повести», которую Баратынский пишет на протяжении 1824—1825 гг. и на которую Дельвиг возлагал надежды как на произведение этапное, знаменующее поворот Баратынского к романтической поэзии. Эти ожидания были симптоматичны: после первых пушкинских «южных поэм» именно большая поэтическая форма воспринималась как показатель романтической ориентации автора.
Расчёт Дельвига оказался верен, хотя и не до конца. В исследовательской литературе о Баратынском было отмечено очень точно, что поэт избрал для «Эды» не столько «романтический», сколько «сентиментальный» сюжет, несколько напоминающий «Бедную Лизу» Карамзина. Однако самая коллизия — вторжение цивилизованного обольстителя в патриархальный мир естественных чувств и отношений — была живой для русского романтизма; проблема «цивилизованного» и «естественного» мира в усложненном и модифицированном виде сохранялась и в южных поэмах Пушкина. При этом если Пушкин открывал для русской поэзии Кавказ, то Баратынский создавал поэтический образ Финляндии. И «Эда», и «финские» элегии расширяли культурно-географический ареал русской литературы, создавая совершенно специфический «местный колорит»: суровый «гранитный край» с нависающим небосклоном, валунами и водопадами получил литературное гражданство более всего через творчество Баратынского.
Подобно первым пушкинским южным поэмам, «Эда» была во многом связана с элегической традицией — в той её форме, какую придал ей Баратынский. Не случайно поэтому образ самой Эды оказался в поэме наибольшей удачей; постепенное зарождение ее чувства к гусару, перерастающего в нежную и робкую привязанность, а затем в чувственную страсть, изображено Баратынским тонко и точно. Вместе с тем образ и объективирован: Баратынский сумел найти и адекватный «литературный жест», выразительные и психологически значительные черты её внешнего поведения. Действие развивается на бытовом фоне, почти прозаическом. Эти особенности поэмы сразу же отметил Пушкин, оценивший «Эду» очень высоко.
Вместе с тем успех поэмы Баратынского не был безусловным. Вспомним отзыв Бестужева. Ещё важнее, что сам Баратынский не был вполне удовлетворен; существует предположение, что он сам соотносил «Эду» с поэмами Пушкина и убедился в невозможности конкуренции.
Работая над поэмой, он сознательно отталкивался от Пушкина, стремясь проявить самостоятельность. Может быть, и отмеченные нами выше особенности «Эды» были в известной мере обусловлены этим заданием. Тем не менее по отношению к поэмам Пушкина «Эда» неизбежно оказывалась явлением вторичным.
Баратынский, однако, не отказался от опытов в жанре поэмы. Более того, он приходит к переоценке жанровых возможностей иных поэтических форм и прежде всего элегии, в которой он до сих пор занимал одно из первых мест. В послании «Богдановичу» (1824) он посвящает несколько пренебрежительных строк «маракам» — подражателям Жуковского и в письме к Пушкину от 5—20 января 1826 г. с удовольствием присоединяется к пушкинским нападкам на унылых элегиков: «Тут и мне достается, да и по делом; я прежде тебя спохватился и в одной ненапечатанной пьэсе говорю, что стало очень приторно Вытьё жеманное поэтов наших лет»
Конечно, Баратынский (как и Пушкин) не отказался от элегии полностью, однако роль субъективно-лирического начала с середины 1820-х гг. у него заметно ослабевает. Отходя от жанровых форм сатиры, дружеского послания, наконец, элегии как таковой, он вслед за Батюшковым и одновременно с Пушкиным культивирует новый для русской поэзии жанр — медитации, поэтического размышления, куда свободно входят философские мотивы, расширившие сферу поэтических тем.
Подобные мотивы намечаются уже в его ранних элегиях; они начинают явственно звучать в стихах 1823 г., в этом году пишется и «Признание», где элегические темы и мотивы перерастают в общую идею жизненного закона. В 1823 г. Баратынский создает «Стансы» (получившие потом название «Две доли») и «Истину» — произведения уже философской лирики, возникающие на поэтическом субстрате его элегий; тема «охлаждения страстей» преобразуется здесь в антитезу «волненье страсти иль покой», которая станет одним из лейтмотивов его поздних стихов. В послании «Богдановичу» (1824) мы находим уже прямую декларацию: Желаю доказать людских сует ничтожность/ И хладной мудрости высокую возможность./ Что мыслю, то пишу...
Послание «Богдановичу», где настоящему противопоставлено минувшее, было программным и во многом уже стояло в преддверии позднего творчества Баратынского. Внешне оно еще было традиционным как по форме, так и по теме; в 1820-е гг. противопоставление «века минувшего» и «века нынешнего» было нередким (ср. «Два века» А. Родзянки (1822) или «Век Елисаветы и Екатерины (отрывок из послания к Державину)» В.И. Туманского (1823)). Однако у Баратынского противопоставление эпох оказывалось возведённым на уровень философско-исторической концепции, которая составляет содержание стихотворения. Так реализовалась декларация, согласно которой предметом поэзии может быть идея высокой степени абстракции. Что касается самой концепции — старения общества, то она получит широкое распространение в романтической историографии и поэзии (например, у Лермонтова). Более того, в послании Баратынского уже намечается одна из центральных тем его позднего творчества — тема «железного века»; она возникает одновременно у него и у Пушкина («Разговор книгопродавца с поэтом», 1824), но у Баратынского окрашивается в типично романтические, негативные и трагические тона. В эпоху корыстолюбия искусству приходится замыкаться в себе и искать идеала в прошлом.
Послание Баратынского, написанное в 1824 г., было напечатано только три года спустя и приобрело еще большую актуальность, так как к этому времени черты «железного века» обозначились еще яснее. В знаменитом пушкинском «К вельможе» (1830) явственно звучит перекличка с посланием Баратынского к Богдановичу.
————
В 1825 г. после настойчивых ходатайств друзей Баратынскому удаётся, наконец, получить офицерский чин. В следующем году он выходит в отставку и поселяется в Москве. Домашние обстоятельства удерживают его вдали от петербургского литературного круга.
По косвенным свидетельствам можно уловить следы душевной драмы, пережитой Баратынским после декабрьских событий.
В его письмах 1826 г. слышатся жалобы на одиночество. «Часто думаю о друзьях испытанных, о прежних товарищах моей жизни — все они далеко! и когда увидимся? Москва для меня новое изгнание», — пишет он Путяте в январе 1826 г. В стихотворении «Стансы» (1827) он, перефразируя относящиеся к декабристам пушкинские строки, за год до этого процитированные Вяземским в «Московском телеграфе», скажет:
Я братьев знал; но сны младые// Соединили нас на миг:// Далече бедствуют иные,// И в мире нет уже других.
В первые годы московской жизни Баратынский общается с Вяземским и другими сотрудниками «Московского телеграфа» во главе с его издателем Н.А. Полевым и — недолгое время — с Пушкиным. Сложнее складываются его отношения с «любомудрами», составившими редакционное ядро «Московского вестника»; несмотря на попытки Пушкина привлечь его к сотрудничеству в этом журнале, Баратынский и «любомудры» не сразу находят общий язык. Это становится особенно очевидным, когда в 1827 г. выходит сборник Баратынского, подведший итог его раннему творчеству; среди благожелательных откликов резким диссонансом прозвучал отзыв С.П. Шевырева, объявившего Баратынского «скорее поэтом выражения, нежели мысли и чувства».
Между тем Баратынский явно эволюционировал к философской поэзии. Последекабрьская эпоха сказалась в его лирике пессимизмом поэтического мироощущения, звучащим постоянно мотивом одиночества и обречённости всего высокого и прекрасного. Эта тема начинает принимать у него универсальный характер. В 1827 г. он создаёт стихотворение «Последняя смерть», открывающее собою новый период его творчества.
«Последняя смерть» включается в круг стихов на эсхатологические темы, широко распространившиеся в русской поэзии начиная с 1820-х гг. Однако трактовка темы у Баратынского своеобразна. Гибель мира приходит не как воздаяние за порочность общества, а в результате естественного закона, — и потому она фатальна и неотвратима. Концепция старения человечества получает здесь наиболее полное и развёрнутое выражение. Покорив себе природу, человек добился полного благоденствия, но тем самым порвал с ней естественные связи. «Телесная природа» человека уступила «умственной» — и он обречён на вымирание. В последней строфе круг замыкается: «державная природа» вступает в свои права на обезлюдевшей земле.
Мотив смерти возникает теперь у Баратынского постоянно — в разных поэтических обличьях. Она — упорядочивающее и организующее начало в мире, «всех загадок разрешенье», «разрешенье всех цепей» земного мира («Смерть», 1829). Социальное бытие есть «хаос нравственный»: Презренный властвует; достойный// Поник гонимою главой;// Несчастлив добрый, счастлив злой...
И только замогильное бытие способно оправдать мудрость божества («Отрывок», сначала «Сцены из поэмы „Вера и неверие“», 1829). И здесь вновь обнаруживается отличие Баратынского от поэтов последующего поколения, обращавшихся к этой теме. Его мировоззрение тронуто религиозным скептицизмом, доставшимся ему в наследство от просветителей XVIII в., которых он в своё время усердно читал. В конце 1820-х гг., в эпоху всеобщей ревизии просветительских идей, он переводит Вольтера («Телема и Макар», 1827). В «Вере и неверии» проблема смерти перерастает в проблему целесообразности мироустройства. Если загробное блаженство не восстановит мирового равновесия, значит создатель не прав и не благ. Он нуждается в «оправдании» перед «сердцем и умом» человека. Через три года в стихотворении «На смерть Гете» Баратынский бросит кощунственную мысль:
И ежели жизнью земною// Творец ограничил летучий наш век, // И нас за могильной доскою,// За миром явлений, не ждет ничего, —// Творца оправдает могила его.
Баратынский готов допустить, что царство «нравственного хаоса» безраздельно и абсолютно, — и это ещё более увеличивает трагическую безнадёжность его поэтического мировосприятия. В 1840 г. он создаёт одно из самых пессимистических стихотворений во всей русской лирике — «На что вы дни! Юдольный мир явленья...» — стихи об умирании заживо, когда перегоревшая душа погружена в вечно повторяющийся сон.
Он разрабатывает и другие мотивы и темы, которые потом будут подхвачены новым поколением романтиков. Он отдаёт дань «ночной лирике», получившей столь широкое распространение в немецкой романтической поэзии и занявшей важное место в творчестве Тютчева («Толпе тревожный день приветен, но страшна Ей ночь безмолвная...», 1839). В «Приметах» (1839) и стихотворении «Предрассудок! он обломок...» (1841) возникает тема первобытной, природной мудрости человека, утраченной с появлением наук, примата интуиции над рациональным познанием, — идея, получившая развитие в романтических философских повестях В.Ф. Одоевского и в тютчевском стихотворении
«А. Н. М.» («Нет веры к вымыслам чудесным...», 1828). В поздних стихах Баратынского присутствует постепенное выветривание конкретно-чувственного образа, его символизацию, даже приближение к аллегории, занимающей подчинённое положение по отношению к общей философской идее. Вместе с тем, выученик школы «гармонической точности», он окончательно не порвал с ней до конца жизни, хотя сам способствовал её смене новыми поэтическими течениями. Сближаясь с «поэзией мысли», как её понимали «любомудры», он в то же время ставит в своих стихах проблему соотношения мысли и чувственной формы, разрушаемой вторжением интеллекта («Все мысль да мысль! Художник бедный слова...», 1840).
Все эти процессы сказались на его поздних поэмах, где эволюция шла более плавно. Ещё не окончив «Эды», Баратынский начинает работу над новой поэмой — «Бал», — которую оканчивает уже в Москве осенью 1828 г.; на протяжении последующих двух лет он пишет «Наложницу» (позднее получившую название «Цыганка»).
Как и «Эда», обе новые поэмы Баратынского во многом опирались на опыт его элегического творчества, и это сказалось прежде всего в методе разработки характеров. «Бал» и «Наложница» близки к «Эде» и по конфликту и сюжетной ситуации: в центре всех трех поэм — героиня и «обольститель», связанные временными, «незаконными» узами; измена героя (отъезд, женитьба) порождает трагическую коллизию. Наконец, во всех поэмах действие развёртывается на прозаизированном бытовом фоне. Это последнее обстоятельство было для Баратынского важно: он избегал композиционных форм, сложившихся в лирической «байронической» поэме, предпочитая эпическую форму рассказа, в то же время достаточно свободную, совмещающую лирические отступления с широким диапазоном авторских интонаций — от элегической ламентации до сатирической шутки. Зарисовки общественного быта и авторские рассуждения, придававшие иной раз рассказу тон непринужденной «болтовни» (пользуясь выражением Пушкина), вызывали естественную ассоциацию с «Онегиным», — но как раз против этого Баратынский решительно возражал. В Онегине он видел героя «охлаждённого»; его же интересовал герой «страстный», чья мятущаяся натура до времени скрыта и проявляется в кризисные моменты его существования. Поэтому и роль бытовой сферы у него иная, чем у Пушкина: она не формирует характер героя, а является как бы производной, вторичной по отношению к герою, который сам «действует и создаёт обстоятельства» («Антикритика», 1831).
Баратынский опирался на общие принципы романтической эстетики. Характеры, выбранные им, необычны и исключительны, и это в первую очередь относится к героиням поэм. Княгиня Нина («Бал») — демоническая жрица чувственной страсти, пренебрегающая условиями общественной морали. В её взаимоотношениях с Арсением она — активное начало. Нина — своего рода антипод Эды. Показательно, однако, что эта служительница «беззаконной страсти» погибает, подобно Эде, как жертва любви; самоубийство ставит её на уровень трагической героини. Ещё в элегиях, прослеживая диалектику чувства, Баратынский пришёл к выводу о двойственности человеческого характера вообще: «...одно и то же лицо является нам попеременно добродетельным и порочным, попеременно ужасает нас и привлекает» («Антикритика», 1831). Художественное исследование продолжается в «Наложнице», где создаётся уже полифония характеров и взаимоотношений: «страстный» герой связан с двумя женщинами, сопоставленными и одновременно противопоставленными друг другу: цыганка Сара с ее неистовыми, «естественными» и в то же время примитивными страстями как будто контрастирует с Верой Волховской, светской девушкой, связанной приличиями и условиями цивилизованного общежития. Вместе с тем в них есть и нечто общее: любовь Веры столь же безудержна и жертвенна, и её внешняя холодность и спокойствие после гибели возлюбленного скрывают душевную драму той же глубины и силы, которая привела к безумию «нецивилизованную» цыганку. Разница заключается в социальных формах поведения, — и здесь Баратынский, как и в своих элегиях, уже открывал пути к психологическому реализму.
В целом же поэмы Баратынского при всех их индивидуальных особенностях включались в общее русло развития романтической поэмы 1830-х гг. с её напряженным драматизмом и мелодраматизмом, неистовством чувств и исключительностью ситуаций. «Наложница» вызвала критическую бурю — ее обвинили в прямой безнравственности, и Баратынский должен был выступить с «Антикритикой», в которой изложил свой взгляд на построение драматического характера и решительно отверг моралистический дидактизм. Впрочем, байроническая поэма 1830-х гг. также не вызывала у него особого сочувствия: он упрекал её в несоблюдении логики характеров и ситуаций, которую стремился строжайшим образом соблюсти в своем собственном творчестве.
Творчество позднего Баратынского во многом соответствовало художественным исканиям 1830-х гг., но его индивидуальная поэтическая судьба складывалась драматично. Как автора поэм его постоянно сопоставляли с Пушкиным, находя у него черты подражательности. Именно в силу внешней близости поэтических принципов Баратынский стремился всячески отделить себя от Пушкина, и это приводило к внутренней борьбе, которая позднейшей критикой истолковывалась иногда как «зависть» младшего поэта к великому сопернику. О «зависти», конечно, говорить не приходится, но взаимное внутреннее охлаждение было. Баратынский менял свою литературную среду, связи его с петербургским литературным кружком ослабевали, а после смерти Дельвига почти вовсе порвались. Зато укрепился его альянс с поздними «любомудрами», искавшими «поэзии мысли»; с конца 1820-х гг. ближайшим его другом и литературным конфидентом становится И.В. Киреевский, занимавший среди любомудров особую позицию, в наибольшей мере приближенную к пушкинской. При всем том в московских литературных кружках Баратынский никогда не чувствовал себя полностью «своим». Пишет он мало и в начале 1830-х гг. готов даже декларативно заявлять о своем отказе от поэтического творчества («Бывало, отрок, звонким кликом...», 1831).
Декларация эта имела отнюдь не только биографические, но и глубокие социальные корни. Романтическое неприятие буржуазного «железного века» становится к середине 1830-х гг. устойчивой чертой мировоззрения Баратынского. Век «насущного» и «полезного» окончательно предстает ему как век конца поэзии. В 1835 г. он пишет своего «Последнего поэта».
«Последний поэт» прямо продолжает и развивает концепцию «Последней смерти». «Дряхлеющий мир» близок к своему концу; предвестие его — расцвет рационалистического «просвещения» и торговли и умирания духовного, интуитивно-поэтического, беспокойного начала. Любви, красоты и поэзии нет более в человеческом обществе, — и последний поэт появляется как неожиданная вспышка духовных сил человечества накануне их иссякновения. Он зовет собратий к исконным началам природы и духа, но призыв его не встречает ответа. Последний поэт бросается в море со скалы Левкада, освященной именем Сафо, — и этот акт самоуничтожения есть для него одновременно и возвращение в породившую его природную стихию, ибо море оказалось неподвластным усилиям человека. Гибель поэта символизирует смерть самого искусства в бездуховном мире. Шестью годами позднее в стихотворении «Что за звуки? Мимоходом...» (1841) почти одновременно с Лермонтовым Баратынский создаёт трагический образ нищего и слепого пророка-избранника, поющего перед толпой, которой его искусство непонятно и не нужно. «Ненужность» и безответность искусства в условиях меркантильного века — тот новый поворот темы «поэта и поэзии», который она приобретает на протяжении 1830-х гг.
Она пронизывалась у Баратынского автобиографическими мотивами, окрашивала собою лирические стихи, где поэт как бы возвращался вновь и вновь к подведению итогов своего творческого — и жизненного — пути («Осень», «На посев леса»).
В пору работы над «Осенью» (1837) к Баратынскому пришло известие о смерти Пушкина, и это придало особую трагическую окраску заключительным символическим строфам стихотворения:
Зима идет, и тощая земля// В широких лысинах бессилья,// И радостно блиставшие поля// Златыми класами обилья, // Со смертью жизнь, богатство с нищетой, —// Все образы годины бывшей// Сравняются под снежной пеленой,// Однообразно их покрывшей, —// Перед тобой таков отныне свет,/ Но в нем тебе грядущей жатвы нет!
Символичным было и название последнего сборника Баратынского — «Сумерки» (1842), в которое он вкладывал двойное содержание: сумерки жизни, сумерки поэзии. Через два года он умер.
Поздняя философская лирика Баратынского отразила духовную атмосферу подекабрьского времени. Устами Баратынского говорила целая литературная эпоха, достигшая своего полного расцвета в творчестве Пушкина и теперь уходящая с литературной авансцены. В этой эпохе Баратынскому принадлежало не первое, но весьма заметное и прочное место. «Воскрешение» его поэзии произошло в начале XX в., однако следы её воздействия ощущаются в творчестве целого ряда поэтов уже начиная с 1830-х гг.
Иван Андреевич Крылов (1768—1844)[
Глубоко знаменательной вехой в развитии русской литературы первой трети XIX в. явилось его басенное творчество.
Ещё велик и непререкаем был авторитет И.И. Дмитриева, когда в 1809 г. появился первый сборник басен Крылова. Он привлёк к себе всеобщее внимание, хотя, казалось бы, никакого касательства к актуальным проблемам литературной жизни и борьбы тех лет не имел. Так было и дальше. Не вступая в полемику, Крылов-баснописец неуклонно идёт своим особым путём и постепенно завоёвывает авторитет одного из крупнейших и самобытнейших литературных деятелей своего времени.
В творческом пути Крылова отчётливо выделяются два качественно различных этапа.
На первом из них, охватывающем 1780—1790-е гг., Крылов выступает преимущественно как драматург и журналист. Поначалу неловкий, не во всем еще зрелый, но боевой и активный, блещущий остроумием молодой Крылов в короткий срок становится известным в литературных кругах Петербурга последних двух десятилетий XVIII в.
Уже в это время отчетливо проявляется талант Крылова-сатирика. Если не считать его первых незрелых трагедий (не дошедших до нас «Клеопатры» и «Филомелы») и нескольких подражательных стихотворений (ода и ряд посланий), то все остальное созданное им в 1780—1790-е гг. так или иначе связано с сатирой. Это обстоятельство важно для уяснения истоков последующего обращения Крылова к басне и его выдающихся — в принципе реалистических — достижений в этом жанре. В журнальных («Почта духов», «Зритель») предприятиях и выступлениях Крылова уже намечаются основные темы и проблематика его басен. В ранних комедиях («Сочинитель в прихожей», «Проказники», 1786—1788) Крылов оттачивает мастерство ведения диалога и построения мизансцен, которое позднее сообщит его басенному повествованию характер динамичного комедийного «действия». Наибольшее значение в этом отношении имели две его пьесы, написанные на рубеже 1790—1800 гг., — шуто-трагедия «Подщипа» (или «Трумф») и комедия «Пирог». Этими произведениями и завершается первый период творчества Крылова.
Уже в самых ранних литературных выступлениях будущего великого баснописца отчётливо проявляется демократизм его мировосприятия. «Мещанин добродетельный и честный крестьянин, преисполненные добросердечием, для меня во сто раз драгоценнее дворянина, счисляющего в своем роде до тридцати дворянских колен, но не имеющего никаких достоинств, кроме того счастия, что родился от благородных родителей, которые также, может быть, не более его принесли пользы своему отечеству, как только умножали число бесплодных ветвей своего родословного дерева», — читаем мы в Письме XXXVII журнала Крылова «Почта духов» (1788—89). Стихийный, непосредственный демократизм, во многом объясняющийся обстоятельствами тяжелой трудовой жизни ранних лет будущего баснописца, пронизывает всю систему его взглядов на явления социальной жизни и определяет как объекты и проблематику сатиры Крылова, так и принципы его художественного мышления. Драматургия Крылова не составляет в данном случае исключения.
Крылов вступает в литературу, когда новые преромантические — преимущественно оссиановские — веяния сталкиваются с доживающим свой век классицизмом. С другой стороны, тогда же активно пробивает себе дорогу новое литературное направление — сентиментализм, возглавляемое Н.М. Карамзиным и И.И. Дмитриевым. В обстановке сложного сосуществования и борьбы разных поэтических школ и направлений Крылов выделяется подчеркнутой независимостью собственной литературной позиции. Он не примыкает ни к какому литературному направлению. И эпигоны классицизма в лице незадачливых одописцев и драматурга Я.Б. Княжнина, и сочинители псевдонародных развлекательных комических опер типа «Двух невест», и последователи нового сентименталистского направления во главе с их вождем Карамзиным — все они в равной мере становятся объектами сатирических нападок Крылова — журналиста и драматурга 1780—1790-х гг. Единственным крупным автором той поры, эстетическая программа которого была в какой-то мере сродни вкусам Крылова и повлияла на поэтику его стихотворных опытов 1790-х гг., был, по-видимому, Г.Р. Державин.
В целом же первый этап творчества Крылова в перспективе его позднейшей эволюции считают своеобразной подготовительной школой.
Новый и зрелый этап творческого пути Крылова, приходящийся на XIX столетие, наступает с момента его обращения к басенному жанру. Писать басни Крылов пробовал и ранее, в период своего сотрудничества в журналах конца XVIII в. Но его самоопределение как оригинального русского баснописца происходит после 1805 г. Один из биографов Крылова вспоминал: «Однажды, это было в 1805 году, перечитывая Лафонтена, он вдруг почувствовал желание передать некоторые из его басен своим языком русскому народу. Работа закипела, басни готовы; и первый, радушно и искренно одобривший его начинание — был И. И. Дмитриев, сам баснописец и превосходный литератор. Возвышенная душа его, хотя с первого уже полета, вероятно, предвидела, как высоко поднимется его соперник, не могла удержаться, чтобы не настаивать, не побуждать его трудиться в этом роде. „Это истинный ваш род, наконец, вы нашли его“, — сказал Дмитриев».
Три басни, принесённые Крыловым на суд Дмитриева, были «Дуб и Трость», «Разборчивая невеста» и «Старик и трое молодых». Две первые, рекомендованные Дмитриевым к печати, сразу же появились в № 1 журнала «Московский зритель» за 1806 г. С этого момента Крылов целиком отдаётся работе над баснями и уже в 1809 г. выпускает первый их сборник в составе 23 басен. За ним последовали сборники «Новые басни» 1811 и 1816 гг., издания басен 1819, 1825 и 1830 гг. Отдельные басни регулярно появляются в ведущих литературных журналах этого времени. Затем Крылов подготавливает к печати полное собрание своих басен в 9 книгах, вышедшее в год смерти писателя — в 1844 г. Туда вошло почти всё из написанного им в этом жанре, за исключением того, что не было в своё время пропущено в печать цензурой (например, «Пестрые овцы»), а также ранних опытов 1780-х гг. В общей сложности Крылов написал свыше 200 басен. Именно в баснях раскрылся сатирический талант Крылова. По определению Белинского, «Крылов, как гениальный человек, инстинктивно угадал эстетические законы басни... он создал русскую басню». На первый взгляд это утверждение может показаться не совсем справедливым. Задолго до Крылова, еще в XVIII в., особенно после Сумарокова (которого современники сравнивали с Лафонтеном) и Хемницера, басня заняла прочное место в жанровом репертуаре русской поэзии.
В момент выступления Крылова в качестве баснописца авторитетнейшим его соперником был Дмитриев. Другим известным — хотя и менее прославленным — баснописцем 1810—1820-х гг. был А.Е. Измайлов. Позднее он выступал даже как теоретик басенного жанра.
Суть дела, по мнению Белинского, заключалась в следующем. Басни Крылова явились принципиально новым явлением по отношению к обоим разновидностям этого жанра, утвердившимся в русской литературе XVIII в., — классицистической и сентименталистской. Первая, к которой примыкают басни Измайлова, была создана А.П. Сумароковым и В.И. Майковым. Она характеризуется нарочитым, рассчитанным на комический эффект смешением «высокого» и самого «низкого» слога, посредством которого осмеивается порок. Сентименталистская басня, основоположником которой был М.Н. Муравьёв, а непревзойденным мастером — Дмитриев, отличается от классицистической «легкостью», изяществом, «приятностью» слога, не допускающего ничего «низкого» и грубого, что может оскорбить «просвещённый вкус». Изящной, не лишённой лиризма простоте стиля басен Дмитриева, их светской изысканности противостоит у баснописца Измайлова явное злоупотребление жаргонно-площадной, «кабацкой», по определению современников, фразеологией.
Тем не менее, что очень важно, басни Измайлова, точно так же как и Дмитриева, остаются сугубо моралистическим, нравоучительным жанром. В них осмеиваются общечеловеческие пороки и преподаются уроки столь же абстрактной общечеловеческой «добродетели».
Историческая заслуга Крылова состояла прежде всего в том, что он освободил русскую басню от абстрактности ее моралистических устремлений. Сохраняя внешние традиционные признаки своей жанровой структуры (аллегоризм персонажей, смысловая двуплановость повествования, наличие моральной сентенции, конфликтность сюжетной ситуации), басня Крылова обрела в то же время новую эстетическую функцию иносказательного же, но остро критического изображения совершенно конкретных социальных пороков современной баснописцу русской действительности.
Вот, к примеру, басня «Волки и Овцы» (1833).
Овечкам от Волков совсем житья не стало,/ И до того, что, наконец,/ Правительство зверей благие меры взяло/ Вступиться в спа́сенье Овец, —/ И учрежден Совет на сей конец. // Большая часть в нем, правда, были Волки;// Но не о всех Волках ведь злые толки.// Видали и таких Волков, и многократ: // Примеры эти не забыты, —// Которые ходили близко стад// Смирнехонько — когда бывали сыты,// Так почему ж Волкам в Совете и не быть?// Хоть надобно Овец оборонить,// Но и Волков не вовсе ж притеснить.// Вот заседание в глухом лесу открыли;// Судили, думали, рядили// И, наконец, придумали закон.// Вот вам от слова в слово он:// «Как скоро Волк у стада забуянит// И обижать он Овцу станет,// То Волка тут властна Овца,// Не разбираючи лица,// Схватить за шиворот и в суд тотчас представить,// В соседний лес иль в бор».// В законе нечего прибавить, ни убавить;// Да только я видал: до этих пор —// Хоть говорят: Волкам и не спускают —// Что будь Овца ответчик иль истец;// А только Волки все-таки Овец// В леса таскают.
Острейшая социальная сатира, где Крылов не морализирует, не поучает; он словно наблюдает и выносит на суд читателя результаты увиденного. Самый механизм «правосудия», основанного на власти силы и на лицемерии, обнажёно представлен здесь.
Неведомая до того не только басне, но и русской поэзии в целом конкретность иносказательно-сатирического изображения Крыловым национально-исторической действительности и дала все основания Белинскому назвать его создателем «русской басни». Русской не только по предмету, но и способу изображения. Он определяется неизвестным до того русской поэзии разговорно-просторечным стилем басенного повествования, воплощением в нём непосредственной языковой стихии национального самосознания, и в первую очередь, но не только, самосознания простонародного. Оно явственно заявило о себе в таких хрестоматийно известных баснях Крылова как «Демьянова уха», «Кот и повар», «Крестьянин в беде», «Крестьянин и овца», «Волк и Ягненок» и многих, многих других.
Сосед соседа звал откушать;/ Но умысел другой тут был:/ Хозяин музыку любил / И заманил к себе соседа певчих слушать./ Запели молодцы: кто в лес, кто по дрова,/ И у кого что силы стало./ В ушах у гостя затрещало,/ И закружилась голова./ «Помилуй ты меня, — сказал он с удивленьем, —/ Чем любоваться тут? Твой хор/ Горланит вздор!»/ «То правда, — отвечал хозяин с умиленьем, —/ Они немножечко дерут;/ Зато уж в рот хмельного не берут, /И все с прекрасным поведеньем». («Музыканты»)
Сказано немного. Но о том, где и с кем сказанное происходит, мы можем судить с полной определенностью. Здесь русский человек добродушно смеется над нелепостями, проявляющимися также по-русски. И незадачливый любитель пения, и его «молодцы», и обманом зазванный сосед — все здесь и хитрят, и поют, и негодуют по-русски. И всё это пронизано тем простодушным лукавством авторской иронии, которую в своё время подметил у Крылова Пушкин. Каждая черта, каждая деталь рассказа находит у Крылова адекватное выражение в той речевой структуре, в той найденной интонационной и фразеологической окраске, какие сообщают басенному повествованию специфически русский «дух». Богатство смысловых и интонационных оттенков, ёмкость, лаконизм, живость и естественность басенного слога Крылова приближают его к афористичной заострённости народных пословиц. Венчающая басню «Музыканты» мораль, — в сущности, видоизмененная пословица:
А я скажу: по мне уж лучше пей,/ Да дело разумей, — наглядно подтверждает данное положение.
Национальную выразительность, «народность» басен Крылова имел в виду Белинский, когда замечал: «...этим-то уменьем чисто по-русски смотреть на вещи и схватывать их смешную сторону в меткой иронии владел Крылов с такою полнотою и свободою. О языке его нечего и говорить: это неисчерпаемый источник русизмов; басни Крылова нельзя переводить ни на какой иностранный язык...».
Даже в тех случаях, когда Крылов обрабатывает традиционные международные басенные сюжеты (что для данного жанра вполне естественно), в самом взгляде на вещи, в логике речей и поступков персонажей басен, в обстановке, их окружающей, — во всём запечатлена духовная атмосфера, порождённая национальным укладом русской жизни. Сама ёмкость социального смысла крыловских басен, при всей, казалось бы, общечеловечности высмеиваемых в них недостатков, основана на постижении автором национального склада русского ума, языка и характера.
Уже в первых басенных сборниках Крылова (1809 и 1811) чётко обозначается круг привлекавших его внимание проблем.
Из одной басни в другую переходят традиционные басенные персонажи, сохраняющие свои зооморфно-человеческие амплуа. Но вместе с тем все эти Волки, Лисицы, Мухи, Пчелы, Овцы, Львы, Орлы и т. п. наделяются Крыловым и типическими чертами определённой социальной психологии и морали. Соответственно в его баснях находит широкое сатирическое отображение реальная практика тех социальных отношений, которые господствовали тогда в России. Одна басня бросает отсвет на другую, расширяя, уточняя, обогащая общую сатирическую картину крепостнических нравов в их самых различных аспектах.
В таких баснях как «Пёстрые Овцы», «Волк и Ягнёнок», «Лиса строитель», «Лев на ловле», «Щука», «Волки и Овцы», «Рыбьи пляски» выставляется на «всенародные очи» лицемерие крепостнической «законности» и тех, кто призван ее блюсти. Зооморфные хищники, крупные и мелкие, действующие в этих баснях и ряде других («Лев, Серна и Лиса», «Лиса и Волк», «Лев и Барс», «Лев и Волк») беспощадны не только к своим беззащитным жертвам — Овцам, Зайцам и прочей мелкой твари, но и по отношению друг к другу.
На другом полюсе его социальной иерархии оказываются всегда и во всем «виноватые», а фактически терзаемые Овцы вопреки формально оберегающему их «закону».
Другая группа басен, органически примыкающая к первой, заострена не только против хищнической практики социальных «верхов», но и против их паразитической морали.
В басне «Орел и Пчела» (1813) жалеющий Пчелу Орел с презрением замечает ей:
«Как ты, бедняжка, мне жалка,/ Со всей твоей работой и с уменьем!»
И, указав на печальный удел Пчелы, Орел самодовольно описывает завидные преимущества своего положения. Его полет вселяет страх в пернатых, все трепещут, «не дремлют пастухи при тучных их стадах...».
Пчела не спорит с Орлом, но ответ её полон достоинства:
«А я, родясь труды для общей пользы несть,/ Не отличать ищу свои работы,/ Но утешаюсь тем, на наши смо́тря соты,/ Что в них и моего хоть капля меду есть».
Ответ Пчелы по-своему повторяет мысль, содержащуюся в предпосланной всей басне морали. В ней заключено по существу нравственное кредо самого Крылова:
...и тот почтен, кто, в низости сокрытый,/ За все труды, за весь потерянный покой,/ Ни славою, ни почестьми не льстится, /И мыслью оживлен одной: /Что к пользе общей он трудится.
Так Крылов ставит труд в центр решения вопроса о социальной полезности человека и его подлинных достоинствах. С образом Пчелы, символизирующей безымянного неутомимого труженика, и связывает баснописец свой позитивный идеал. Способность «труды для общей пользы несть» становится у Крылова мерилом истинной ценности человека в обществе. Эта же мысль составляет основу содержания басен «Листы и Корни», «Старик и трое молодых», «Камень и Червяк», «Паук и Пчела», «Обезьяна».
Соответственно на противоположном полюсе шкалы этой ценностной иерархии располагаются те, кто пользуется плодами чужого труда, персонажи, которые обличают паразитизм. Вот зачин басни «Муха и Пчела» (1823):
В саду, весной, при легком ветерке,/ На тонком стебельке/ Качалась Муха, сидя,/ И, на цветке Пчелу увидя,/ Спесиво говорит: «Уж как тебе не лень/ С утра до вечера трудиться целый день!/ На месте бы твоём я в сутки захирела».
Как видим, зачин несколько напоминает ситуацию из басни «Орел и Пчела». Презрение к трудам Пчелы действительно позволяет поставить в один ряд и ничтожную Муху и гордого Орла. Так вскрывается та простая истина, что в социальной системе все оказывается связано, ибо нравственность определяет мораль всего социального организма. Муха похваляется знанием света. И в ответ на укоризненные слова Пчелы о том, «Что на пирах лишь морщатся от Мухи,/ Что даже часто, где покажешься ты в дом,/ Тебя гоняют со стыдом», — /Муха, не моргнув, восклицает: /«...гоняют! Что ж такое?/ Коль выгонят в окно, так я влечу в другое».
Психология паразитизма выявлена отчетливо. Рядом с этой Мухой можно смело поставить и Жужу, заслужившую милость господ умением ходить на задних лапках («Две собаки»), и Гусей, требующих уважения за заслуги своих предков, в какой-то мере и плясунью Стрекозу («Стрекоза и Муравей»).
В этом же ряду располагаются басни, в которых Крылов высмеивает галломанию дворянства, его пристрастие ко всему иноземному («Лжец», «Обезьяны», «Бочка»).
Крылов по-своему осветил и тему власти денег (басни «Мешок», «Откупщик и Сапожник», «Фортуна и Нищий», «Бедный Богач»), и тему личной ответственности каждого человека перед собой и другими («Фортуна в гостях», «Охотник», «Мот и Ласточка», «Мельник»).
Даже если не касаться того очевидного факта, что в баснях Крылова отразился практический и живой ум русского народа, можно смело утверждать, что Крылов, пожалуй, впервые раскрыл в своих баснях психологию русского мужика. И представил он её многогранно, предвосхитив по-своему и мужиков повестей Григоровича, и крестьян стихотворений Некрасова, и мужиков очерков Н. Успенского (басни «Крестьянин и Работник», «Крестьяне и Река», «Крестьянин и Змея», «Три Мужика», тот же «Мельник»).
Особое место в наследии Крылова занимает цикл басен, посвященных событиям Отечественной войны 1812 г. Таковы басни «Раздел», «Ворона и Курица», «Волк на псарне», «Обоз», «Кот и Повар», «Щука и Кот». Они явились прямыми откликами на события войны 1812 г. Примечательно, что за период 1812—1813 гг. Крыловым не было создано ни одной басни, содержание которой было бы заимствовано из иностранных источников. Все его басни этого периода оригинальны. И это прямо связано с особенностями той исторической ситуации, в которой они были созданы.
Исследователи видят в Крылове, авторе этого цикла басен, своеобразного «летописца» грозных событий 1812 года. «Пафос государственной масштабности, устремлённая целенаправленность в решении общего дела говорят нам не только о Крылове-рассказчике и непревзойденном художнике в своем жанре, но и о деятеле. Здесь слово рождалось делом и, родившись, становилось делом — делом важности общенародной. В баснях 1812 г. вырисовывается образ поэта-гражданина».
Крылов первый в русской литературе отразил народный характер войны 1812 г. Его оценка всего происходящего, его мудрая поддержка действий главнокомандующего русской армией М.И. Кутузова резко не совпадали с официальной точкой зрения. Тем значительнее были заслуги перед нацией Крылова — создателя басен, посвящённых военным событиям 1812 г. Крылов и здесь находит способы придать традиционному канону басенного жанра не свойственную ему ранее масштабность, только на этот раз в возвышенно идеальном плане. Современная история врывается в басню, и патриотическая тема разрабатывается подчас в необычном для басни почти одическом ключе:
Когда Смоленский князь,/ Противу дерзости искусством воружась,/ Вандалам новым сеть поставил/ И на погибель им Москву оставил;/ Тогда все жители, и малый и большой,/ Часа не тратя, собралися/ И вон из стен Московских поднялися,/ Как из улья пчелиный рой. («Ворона и Курица»)
Смоленский князь — это, конечно, Кутузов. И введение в число басенных персонажей реального исторического деятеля, осуществляющего высокую миссию спасения государства от захватчиков, в рамках жанра басни предстаёт несомненным новаторством. Крылов задолго до Льва Толстого изобразил Кутузова выразителем воли народных масс. Характерно единодушие, с которым жители Москвы покидают столицу («Как из улья пчелиный рой»). И на фоне этого массового порыва читатель внезапно вновь погружается в атмосферу жанра басни. Сказитель уступает место сатирику:
Ворона с кровли тут на всю эту тревогу/ Спокойно, чистя нос, глядит. /«А ты что ж, кумушка, в дорогу? —/ Ей с возу Курица кричит. — /Ведь говорят, что у порогу/ Наш супостат». —/ — «Мне что до этого за дело? —/ Вещунья ей в ответ. — Я здесь останусь смело./ Вот ваши сестры — как хотят; /А ведь ворон ни жарят, ни варят:/ Так мне с гостьми не мудрено ужиться,/ А, может быть, еще удастся поживиться/ Сырком, иль косточкой...
За этим невинным разговором двух басенных персонажей скрывается, как это обычно бывает у Крылова, острая сатира. Подтекст басенной аллегории отсылает нас к вполне определенным фактам того времени. Примечательна тонкая речевая характеристика двух по-разному смотрящих на события персонажей. Эту сторону басни верно подметил В.А. Архипов. «„Наш супостат“, — говорит курица об общем враге. Здесь и наш, и супостат — очень значимые определения. Равно как и очень значимы слова Вороны — „мне с гостьми“... Не супостат, а гости, и не нам, а мне».
И блестящая концовка басни, вновь выдвигающая перед читателем образ Кутузова, осмеивает упования Вороны на щедрость «гостей»:
Но, вместо всех поживок ей,/Как голодом морить Смоленский стал гостей —/ Она сама к ним в суп попалась.
Как видим, «поживкой» для «гостей» оказалась сама Ворона. Таков логический конец всех Ворон, ставящих свои личные интересы выше интересов отечества, точнее, для которых понятия отечества вообще не существует. И здесь юмор Крылова беспощаден.
Ещё более полно всенародный характер борьбы с наполеоновским нашествием и мудрость действий Кутузова нашли своё отражение в одной из лучших басен Крылова — «Волк на псарне». Написанная в 1812 г., она сразу же получила широкий общественный резонанс. Современники прекрасно понимали её смысл. По свидетельствам очевидцев, «И.А. Крылов, собственною рукою переписав басню „Волк на псарне“, отдал её княгине Катерине Ильиничне, а она при письме своём отправила её к светлейшему своему супругу. Однажды, после сражений под Красным, объехав с трофеями всю армию, полководец наш сел на открытом воздухе, посреди приближенных к нему генералов и многих офицеров, вынул из кармана рукописную басню И.А. Крылова и прочёл её вслух. При словах: „Ты сер, а я, приятель, сед“, произнесённых им с особою выразительностью, он снял фуражку и указал на свои седины. Все присутствующие восхищены были этим зрелищем, и радостные восклицания раздавались повсюду».
Признание Крыловым действий и заслуг Кутузова в войне 1812 г. находило сочувственный отклик в широких общественных кругах и прямо противостояло официальной версии, приписывавшей всю её славу Александру I. Истинная роль Александра I охарактеризована в баснях «Обоз», «Щука и Кот». И когда уже после изгнания французов и смерти Кутузова в бесчисленных панегирических одах Александр I изображался победителем Наполеона, Крылов остался верен своей точке зрения.
Коротенькая басня «Чиж и Еж» (1814), исполненная лукавства и скрытой иронии, несомненно носит полемический характер:
Уединение любя,\ Чиж робкий на заре чирикал про себя,\ Не для того, чтобы похвал ему хотелось,\ И не за что; так как-то пелось!\ Вот, в блеске и во славе всей,\ Феб лучезарный из морей\ Поднялся.../ Хор громких соловьев в густых лесах раздался./ Мой чиж замолк. «Ты что ж, —/ Спросил его с насмешкой Еж, —/ Приятель, не поешь?» —/«Затем, что голоса такого не имею,/ Чтоб Феба я достойно величал, —/ Сквозь слезы Чиж бедный отвечал, —/ А слабым голосом я Феба петь не смею» /——— /Так я крушуся и жалею,/ Что лиры Пиндара мне не дано в удел:/ Я б Александра пел.
Басня, как видно из морали, по-своему автобиографична. Известно, что к баснописцу обращались, и неоднократно, с предложениями воспеть Александра I как «благословленного» царя, спасителя отечества. В обстановке всеобщего торжества, на фоне многочисленных хвалебных песнопений молчание Крылова вызывало недоумения.
Такова еще одна грань творчества Крылова-баснописца, раскрывающая гражданственный патриотизм его басен не только в сатирическом, но и в утвердительном, позитивном аспекте.
Во многих и лучших баснях Крылова нет традиционной для этого жанра сентенции — концовки, т. е. морали, извлекаемой из повествования. Но и в тех случаях, когда она наличествует, ей придана функция своеобразного прикрытия, позволяющего автору говорить о вещах, о которых в ином жанре и иным способом было бы вообще невозможно ничего сказать. Вместе с тем Крылов значительно расширяет жанровые возможности басни и существенно преобразует её структуру и характер повествования. Белинский утверждал: «басни Крылова — не просто басни; это повесть, комедия, юмористический очерк, злая сатира, словом, что хотите, только не просто басня».
Масштабность социальной проблематики басен Крылова неразрывно связаны с ёмкостью и выразительностью их просторечно-разговорного стиля. Например: Вороненок (персонаж одноименной басни, 1811) усмотрел, как Орел выхватил из стада ягненка. «Взманило» это Вороненка,
Да только думает он так: «Уж брать так брать,/А то и когти что марать!/ Бывают и Орлы, как видно, плоховаты».
Воронёнок решает унести барана. Печальный конец дерзкого и худородного птенца, вздумавшего подражать Орлу, да еще и перещеголять его в воровстве, предрешен. Мораль басни переводит разрешение сюжетной коллизии в социальную плоскость: «Что сходит с рук ворам, за то воришек бьют». Как тут не вспомнить знаменитый окрик гоголевского городничего «Не по чину берешь!», которым он осаживает зарвавшегося квартального. В маленькой басне Крылова по-своему, как в зародыше, предвосхищена картина поголовной коррупции бюрократического аппарата, которую Гоголь развернёт в «Ревизоре». «Брать по чину» — первая заповедь чиновного сословия. И в огласовке Крылова она лучше «Табели о рангах» характеризует систему должностной иерархии.
В баснях Крылова зарождались некоторые существенные черты реализма. Прежде всего они заявляют себя особым характером комизма басен, во многом сродного тому, который Гоголь назовет «смехом сквозь слезы».
Новая идейная функция, которую приобретает у Крылова изначала присущий басенному жанру комизм, была отмечена Белинским: «...в лучших баснях Крылова нет ни медведей, ни лисиц, хотя эти животные кажется и действуют в них, но есть люди и притом русские люди». И это так потому, что в максимальном приближении басенного стиля Крылова к ироническому строю народных пословиц и поговорок непосредственно выражается духовный склад, самый образ мышления русского народа, его не только лукавая, но подчас и горькая ирония. Многие афоризмы самого баснописца, как потом и Грибоедова, автора «Горя от ума», стали пословицами и поговорками, накрепко вошедшими в разговорный обиход русского языка: «Услужливый дурак опаснее врага», «А Васька слушает, да ест», «На свете кто силен, тот делать все волен», «Худые песни соловью в когтях у кошки» и множество других.
В этой связи уместно вспомнить Слона-воеводу из басни «Слон на воеводстве». Слона, который «в родню был толст, да не в родню был прост». В тексте басни этот афоризм предваряется поговоркой: «Однако же в семье не без урода». В ней намек на пустопорожность добрых намерений «Воеводы»: решив отстоять справедливость («Неправды я не потерплю ни в ком»), он тут же выносит решение по жалобе овец на волков в пользу последних и под их нажимом: По шкурке, так и быть, возьмите,
А больше их не троньте волоском.
Так в сюжете и стиле басни реализуется в ироническом аспекте житейская мудрость поговорки: «Снявши голову, по волосам не плачут». О каком волоске может идти речь, если шкурка снята!
Одураченный Слон-воевода сам по себе комичен. Но совершенно обратное, отнюдь не комичное впечатление производят выданные им на растерзание волкам и искавшие у него защиты овцы. В силу трагического подтекста своего комизма Крылов предстаёт прямым предшественником Грибоедова, Гоголя и Щедрина и становится выразителем народного взгляда на вещи.
Живая, лишённая налета «книжности», равно чуждая ее карамзинистским и шишковистским принципам, национальная стихия просторечного языка — и при этом поэтического языка — басен Крылова открывала перед русской литературой новый и перспективный путь к решению её важнейшей тогда проблемы — народности в значении национальной самобытности. Это и имел в виду Гоголь, когда писал о Крылове: «В басне у него выразился чисто русский сгиб ума, новый юмор, незнакомый ни французам, ни немцам и ни англичанам, ни италианцам». Значение басен Крылова для выразительного в своей национальной специфике языка, на котором изъясняются персонажи «Горя от ума», было отмечено Белинским: «Не будь Крылова в русской литературе, стих Грибоедова не был бы так свободно, так вольно, развязно оригинален, словом, не шагнул бы так страшно далеко». Несколько позднее Белинский уточнит свою мысль так: «...для Грибоедова были в баснях Крылова не только элементы его комического стиха, но и элементы комического представления русского общества». Приведя в доказательство басню «Лисица и Сурок», Белинский далее говорит: «...много ли стихов и слов нужно переменить в этой басне, чтоб она целиком могла войти, как сцена, в комедию Грибоедова, если б Грибоедов написал комедию „Взяточник“? Нужно только имена зверей заменить именами людей...».
В то же время Белинский отметил: «Крылов выразил — и надо сказать, выразил широко и полно — одну только сторону русского духа — его здравый, практический смысл, его опытную житейскую мудрость, его простодушную и злую иронию». Но это не помешало Белинскому признать «по справедливости» неоспоримое право Крылова «считаться одним из блистательнейших деятелей карамзинского периода, в то же время оставаясь самобытным творцом нового элемента русской поэзии — народности». Народности, «которая только проблескивала и промелькивала временами в сочинениях Державина, но в поэзии Крылова явилась главным и преобладающим элементом».
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797-1846) | | | Драматургия начала XIX в. Творчество А.С. Грибоедова. Комедия «Горе от ума» |
Дата добавления: 2014-05-03; просмотров: 524; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!