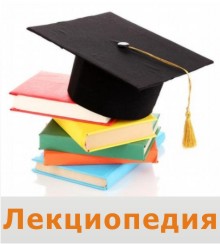
Главная страница Случайная лекция

Мы поможем в написании ваших работ!
Порталы:
БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика

Мы поможем в написании ваших работ!
Глава вторая Джентльмен в поисках сюжета
«…проза, помимо всего прочего, это еще и ремесло со своими трюками – мешок фокусника. И как ремесло она имеет свою собственную родословную, свою собственную динамику, свои собственные законы и свою собственную логику».
В. Набоков «Искусство литературы и здравый смысл»
– КОГДА У ВАС ВОЗНИКЛО СТОЙКОЕ УБЕЖДЕНИЕ, ЧТО ВЫ ПИСАТЕЛЬ?
– Знаете, тут можно было бы заявить с некоторой долей кокетства, что у меня и сейчас нет стойкого убеждения, что я писатель (тем более, что у всякого литератора такие минуты случаются). Но у меня есть определенная точка зрения на то, что считать профессией. Если человек посвящает все свое рабочее время какому-то делу, и дело это его кормит, – он имеет полное право считать себя профессионалом.
С двадцати двух лет я кормлюсь сочинительством, отдавая ему все время, следовательно, я – писатель. Плохой или хороший, – не суть важно; это мое занятие, которым добываю своей семье пропитание.
– ЧЕМ ПИСАТЕЛЬ-«ПРОФИ» ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НЕПРОФЕССИОНАЛА – ДЕВИЗОМ «НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ», ПОЛУЧЕНИЕМ ПРЕСТИЖНЫХ ПРЕМИЙ, УМЕНИЕМ ПРОЖИТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ГОНОРАРЫ?
– Да нет, конечно же, вовсе не этим. Исключительно качеством работы, мастеровой хваткой. У профессионала безукоризненно отлажена связка: глаза-мысль-рука. Помните, Чехов уверял, что может написать рассказ о чем угодно – о чернильнице, на которую упал взгляд?
Любой жизненный материал содержит в себе саморазвивающееся художественное зерно, которое «произрастить» может только мастер. Как хороший садовник, скупым и точным движением он отсечет секатором слабые боковые ветви и пустит ствол повествования расти ввысь.
– ПИСАТЕЛЯ ИНОГДА СРАВНИВАЮТ С ЭКСТРАСЕНСОМ: ТОННЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ – ЛЮДЯМ, А ЧТО – СЕБЕ? НЕ ОСТАЕТСЯ ЛИ ОЩУЩЕНИЕ ПУСТОТЫ, НЕВОСПОЛНЕННОСТИ ДУШЕВНОГО ПРОСТРАНСТВА? НЕ СЛИШКОМ ЛИ ДОРОГА ЦЕНА ОБНАЖЕНИЯ ДУШИ?
– Во-первых, профессия писателя отнюдь не всегда «обнажение души»; это, скорее, строительство своего пространства; вообще, творчество, это, конечно, использование и своего жизненного опыта, но оставаться перед читателем в нижнем белье… это выбирает далеко не всякий художник, а если уж выбирает, то это такое белье, что – как говорила моя бабушка – «есть на что посмотреть, и есть что пощупать».
Во-вторых, каждый из нас, и не только писатель, всегда платит за все валютой собственной жизни: за счастье, за творчество, за любовь, за увлечения… Боюсь, то самое ощущение пустоты, душевной невосполненности, о которых вы говорите, возникают время от времени у любого человека. У писателя же есть преимущество: он «страж времени», в его власти – запечатлеть миг, день, сценку, разговор, сильное переживание, прошлогоднее цветение жимолости под балконом – то самое «остановись, мгновенье!» Так что, мы, полководцы слов и фраз, наоборот, в более выгодном положении: у нас, помимо груза нашей собственной жизни, есть еще «дополнительный вес», разрешенный небесной таможней.

– КАКИМ БЫ ЖАНРОВО И СТИЛИСТИЧЕСКИ РАЗНООБРАЗНЫМ НИ БЫЛО ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЯ, ОН ВСЕ ЖЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ НАБОРОМ ПРИЕМОВ, СУММИРУЯ КОТОРЫЕ, КРИТИКИ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ ГОВОРЯТ О СТИЛЕ ТОГО ИЛИ ДРУГОГО МАСТЕРА. ВЫ СОГЛАСНЫ С ЭТИМ?
– С тем, что, взламывая этот мир, каждый писатель пользуется своими личными отмычками? Разумеется.
Виктор Славкин мне рассказывал, что в конце семидесятых годов прошлого уже века некий старый еврей, ремесленник-драматург, учил его, как писать пьесы:
– Витенька, – говорил он со скептической миной на лице, – пьесы писать очень просто! Что такое пьеса? Это: завьязка-кульминатия-развьязка – всё!!!
И, знаете, до известной степени эта схема подходит любому жанру. Ведь если вдуматься: любое произведение, хочешь-не хочешь, должно начинаться с некой расстановки героев и событий, затем эти силы взаимодействуют до абсолютного осуществления и исчерпания всех мотивов данного материала. После чего автор должен как-то выкручиваться из ситуации. Помните чеховское: «в финале герой либо женись, либо застрелись» – и это та ужасная, и совсем не смешная правда, с которой писатели вот уже много веков ничего не могут поделать. Между нами говоря, ведь и сюжетов в литературе – всего тридцать шесть. Не помню, кто из великих жизнь положил на то, чтобы изобрести тридцать седьмой сюжет, но ему это не удалось.
Совсем иное дело – байка! Она рождается из ничего, выскакивает, как черт из табакерки и содержит в себе капсулу спонтанного сюжета, для воплощения которого никакие «приемы» не нужны.
Несколько раз я сама бывала свидетелем рождения байки.
Картинка по теме:
Однажды, году в девяносто седьмом, я оказалась с выступлением в Берлине. В те же дни там выступали писатели и журналисты, такая бригада-десант газеты «Московские новости», в те годы едва ли не самой популярной. В этой бригаде были Виктор Шендерович и Юрий Рост, известные журналист и фотохудожник. Мы встретились на приеме в «Русском доме», и, прогуливаясь по залу с бокалами в руках, разговорились.
– Юра, – сказала я, – помню один фотопортрет вашей работы: того грузинского актера, что играл в сериале по роману «Дата Туташхия». У него еще такое, виртуозное для языка имя – Отар Мегвинатухуцеси… Отличный портрет: он стоит, небрежно опершись на невысокую коринфскую колонну – в ослепительно белой сорочке, во фраке, в бабочке, в цилиндре и… босой! И такие у него синие-синие глаза…
Юрий покивал:
– Да, да… А вы знаете, что он снялся в фильме по Библии?
– О! Кого играл? Христа?
– Да нет, просто они на «Грузия-фильм» сняли ленту по мотивам библейских сюжетов, но все – на грузинский лад.
– Что это значит? – удивилась я.
– Да просто: если в Библии говорится о пастухе, то в кадре мы видим грузинского пастуха, а вокруг по грузинским холмам гуляют грузинские овечки. Если речь идет о дровосеке, то на экране – идет грузинский дровосек, несет на плече вязанку грузинских дров. Если притча о сыроваре – в кадре мы видим грузина в сванетке, перед которым на доске разложены грузинские сыры…
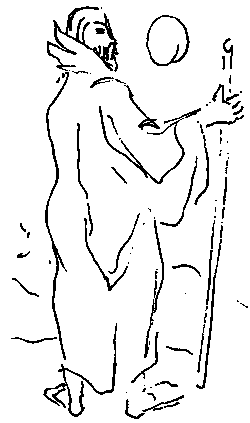
– Юра, минутку… – уточнила я. – Но распинают-то, все-таки, евреи?
Рост запнулся на мгновение, и быстро проговорил:
– Грузнские евреи!
И мы с Шендеровичем одновременно расхохотались. Я поняла, что родилась байка, и с тех пор везде ее рассказываю.
И, между прочим, еще одна трогательная история о Библии на грузинский лад.
Моя подруга родилась в Тбилиси и провела там все детство. Родители наняли для девочки няньку, старую красивую грузинскую женщину из какого-то села. И вот, каждый вечер, укладывая свою трехлетнюю подопечную спать, няня рассказывала ей сказку. В комнате стояла полнейшая тишина, только из-за двери ровно и глухо-торжественно звучал голос старой грузинки.
Однажды отец девочки, заинтригованный такой необычной кротостью своей непоседливой дочки, подкрался к дверям – послушать, что ж это за сказки такие.
И услышал:
– И та-агда Иисус Христос ударил посохом, рассек воды Черного моря, чтобы грузины пра-ашли по дну и вышли на берег прекрасной Грузии!
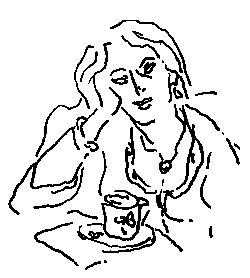
– ГДЕ-ТО ВЫ ГОВОРИЛИ, ЧТО ПИСАТЕЛЬ – ЭТО ПЛЮШКИН, КОТОРЫЙ ПОДБИРАЕТ ВСЕ, ЧТО ПЛОХО ЛЕЖИТ.
– Подбирает, улавливает, подглядывает, унюхивает, крадет у коллег… и делает все своим. Все мое: к чему наклонилась, что подобрала, что увидела, за чем потянулась, – все мое, если это художественно переработано, пропущено через все фильтры литературного дарования, самые мощнейшие фильтры, и воплощено в художественную реальность…
Писатель – уникальный архивариус, страж времени, странный персонаж, – в его котомке фасоны одежды, марки машин, блеск жестяной крыши сарая, смятая салфетка с мимолетным адресом, едва подсохшая слеза на скуле хохочущей девушки, лепнина балтийских облаков… И когда из всего этого барахлишка вдруг оживет и зашевелится кусочек времени, отрезок эпохи… вот уж ликование, вот радость!
– А МОЖНО ПРИМЕР?
– Ну-у… скажем, однажды я невольно подслушала разговор мужчины и женщины за соседним столиком в кофейне. Разговор велся на повышенных тонах – обоим было все труднее себя сдерживать. Из реплик постепенно выяснялось, что это – супруги, прожившие двадцать семь лет. И вот теперь муж уходит к другой женщине, даже не моложе, не красивее… просто – к другой. И его жена, из последних сил пытаясь оставаться в рамках «публичного приличия», все пыталась выяснить: чем взяла соперница.
– Ну что, – спрашивала она в пятый раз с горечью, – что тебя в ней привлекло?
– Она сделала из меня человека! – наконец, в сердцах выпалил муж.
– Что это значит? – с оторопевшим лицом спросила жена.
– Она многому меня научила!
– Ну, чему, чему она тебя научила? – чуть ли не выкрикнула женщина. – Например?!
– Например, она вывела у меня перхоть!
Смешно? Конечно, смешно, если не думать о том, что оба страдают. Но этого недостаточно для читательского сопереживания. Это просто диалог. Кому-то оба покажутся нелепыми, кто-то посочувствует женщине, кто-то – мужчине… И только писатель властен придать этой мгновенной сценке объем, причем, какой захочет – трагический или комический. В зависимости от обстоятельств. Например, если читатель узнает, что мужчина-то тяжело болен, и диагноз его известен только жене, которая уговорила онколога пока не сообщать больному приговор… Или, наоборот, больна та женщина, разлучница, и он это знает… Или никто не болен, но…

– Я ВИЖУ, ПИСАТЕЛЬ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ?
– Ну что вы, какая это работа. Это ежеминутная гимнастика воображения по любому поводу. Мгновенные творческие импульсы на малейшие раздражители реального мира. Неуловимые приказы мозга, в вечной засаде стерегущего «добычу».
– А ВЫ ЗАПОМИНАЕТЕ ТАКИЕ СЦЕНКИ, ИЛИ ЗАПИСЫВАЕТЕ? И КАК ОКРУЖАЮЩИЕ ОТНОСЯТСЯ К ТАКОМУ ФИКСИРОВАНИЮ ИХ СЛОВ, ИХ ЖИЗНИ – БУКВАЛЬНО НА ИХ ГЛАЗАХ?
– Нет, я пытаюсь, мучительно пытаюсь запоминать, хотя надо уже плюнуть на все приличия. Память-то с возрастом не молодеет. Помните, Толстой писал в дневнике: «Старею. Путаю имена сыновей. Не важно! Все – дикие».

Так вот, я еще стараюсь оставаться в рамках светского общения. Игорь Губерман, у которого в кармане всегда блокнотик и карандаш, рассказывал мне, что, услышав или увидев что-то ценное, немедленно отлучается в туалет, и там, присев на краешек унитаза, аккуратно все заносит в блокнотик. И ведь это – человек, который и сам чуть ли не ежеминутно извергает афоризмы и каламбуры, которому, казалось бы, можно и побрезговать оброненной кем-то фразой… Но вечный хищный тонус охотника за скальпами… И ведь знаете, надо ж еще приличную мину соблюсти.
Картинка по теме:
Недавно я заскочила к своему врачу – выписать рецепт. В приемной передо мной уже сидят две пожилые дамы, и в кабинете, судя по голосам – еще одна. Причем, кабинет от приемной отделяет тонкая стенка, так что врачебная тайна отдыхает. А если еще учесть, что к нашему «русскому» доктору записываются в основном «русские» пациенты… можешь быть уверен, что весь городок скоро будет в курсе всех твоих немочей.
Короче, пристраиваюсь я в очередь, а за стенкой, между тем, идет беседа врача с пациенткой:
– Доктор, выпишите мне яду!
– Я не выписываю ядов, у меня другая профессия.
– Нет, выпишите мне яду, я не буду больше жить с такой болью в колене!!!
– Так, хорошо, яду. Что еще?
– И лекарства на три месяца…
В эти же мгновения другое мое ухо фиксирует неспешную беседу тех двух дам, которые сидят в очереди передо мною:
– Вы слышали, у Гуревича жена умерла. Бедный, он так страдает… На нем просто нет лица!
– Ай, оставьте, на нем есть лицо! На нем нет чистой рубашки. Ну, ничего: вот она умерла, вот он ее похоронил, скоро женится, и на нем будет лицо, и на нем будет чистая рубашка!
Наконец, из кабинета выходит любительница ядов, и входит следующая пациентка. Эта как раз к лекарственным препаратам относится с подозрением:
– Доктор… вы мне сказали пить две таблетки: красненькую и желтенькую.
– Да-да. Одну вы принимаете до еды, другую – после.
– Доктор… я как раз хотела спросить: можно я буду принимать только красненькую?
– Да что вы, это разные лекарства от разных болезней! Будьте любезны – одну до еды, другую – после!
– Знаете, доктор… тогда я буду принимать только желтенькую…
В кабинете наступает зловещая тишина, как перед взрывом. Наконец, вскипающий голос доктора:
– Послушайте: Фишер и Фридман – это одно и то же?!
Снова тишина, озадаченная…
– А я с ними не знакома… – наконец, искренне отвечает дама.
И я, закусив губу, сижу с каменным лицом, чтобы, выйдя из кабинета врача, тут же записать на обороте рецепта не только «слова песни», но и интонацию – что не менее важно.
– ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧЕЛОВЕКА МОЖНО ОБУЧИТЬ ПИСАТЕЛЬСКОМУ МАСТЕРСТВУ? – Нет, конечно. Это все равно, что учить ребенка ходить, объясняя – какой ногой и как ступать. Но образовать его, обучить каким-то расхожим приемам ремесла – можно вполне… Скажем, погрузить в среду, которая отшлифует дарование…
Картинка по теме:
Году в восемьдесят пятом мы с Борисом оказались в Доме творчества писателей в Гаграх. Познакомились там с трогательным старичком, не помню, как его звали, – скажем, Степан Ильич. Оказалось, что Степана Ильича только три года назад приняли в Союз писателей. А до этого он всю жизнь был замдиректора по хозяйственной части Дома творчества «Переделкино». И всю жизнь писал стихи, допекая известных писателей, постояльцев «Переделкино», просьбами прочитать и «дать свою оценку».
Говорил он размеренно, степенно, таким эпическим зачином:
– Да-а… У нас каждый год поэт Луговой живал, по два, по три месяца… Да-а… И я однажды решил ему стихи показать, попросил нашего директора – они с Луговым были приятелями, – чтобы составил протекцию. Тот все выяснил, договорился, и сказал мне:
– По вечерам Луговой медитирует. Вот как увидишь вечером, что свет у него зажегся, – выжди часа два, потом иди… Да-а… Я так и сделал… Поднялся по лестнице, постучал… услышал: «Войдите!»… Открыл дверь и вошел. Луговой сидел на полу, в позе лотоса. Принял меня приветливо, но подниматься не стал. Взял тетрадку с моими стихами… глазами по строчкам побежал, кивал, кивал… Что-то хвалил… Да-а… Одну строку только раскритиковал. Там у меня такое слово было – «стезя». Он ногтем эту строку отчеркнул и сказал: «„Стезю“ – к ебене матери!»
Между прочим, этот Степан Ильич потом и в Литературный институт поступил, в семинар Михаила Светлова. Рассказывал, что на первом занятии Светлов велел каждому студенту-новичку прочесть по одному своему стихотворению. Пока ребятки завывали, Михаил Аркадьевич сидел, дремал… Когда отчитал свои вирши последний студент, Светлов открыл глаза и сказал: «Ну, поэтов из вас не выйдет, а стихотворцев я из вас сделаю. Стоить это будет недорого: бутылку водки».
– ПОХОЖЕ, ТЕМА «СВЕТЛОВ И ВОЗЛИЯНИЯ» НЕИСЧЕРПАЕМА. ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО МНОГИЕ ИСТОРИИ НА ЭТУ ТЕМУ ВОЗНИКЛИ УЖЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ ПОЭТА?
– А это неважно. Кристаллизация мифа – дело обычное в том, что касается биографии знаменитых людей. Процесс активизируется именно после того, как человек умирает. Ведь, если вдуматься, на всем протяжении истории культуры мы имеем дело с мифами. Они возникают при жизни творца (или сразу с его смертью), отвердевают, обрастают деталями, служат основой для творчества более поздних поколений творцов. Возьмите заведомо сомнительную легенду о Моцарте и Сальери. Сколько споров она породила. Но и гениальную пьесу Пушкина – тоже.
Кстати, о Сальери, Моцарте и… опять же, Михаиле Светлове. Возможно, очередная байка. Возможно, миф. Светлова обсуждали на заседании бытовой комиссии Союза писателей, ругали за пьянство. Тот слушал-слушал, наконец, вспылил:
– Да что вы пристали! – говорит. – Все великие пили!
– Кто – пил?
– Да все: Мусоргский пил, Глинка пил, Моцарт пил…
– Что?! Что Моцарт пил-то?! – возмутился кто-то из партийных функционеров.
– А что Сальери ему наливал, то и пил, – мгновенно ответил гениальный Светлов.
– ПРОСТРАНСТВО, КОТОРОЕ СОЗДАЕТ ПИСАТЕЛЬ, ЗАПОЛНЕНО ОСОБОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ. ЧАСТЕНЬКО ЭТА ЭНЕРГИЯ ПО КАКИМ-ТО СВОИМ ЗАКОНАМ ПЕРЕТЕКАЕТ В РЕАЛЬНОСТЬ. НЕМАЛО «ПИСАТЕЛЬСКИХ» СЛУЧАЕВ, КОГДА АВТОР ПРИДУМЫВАЕТ СЮЖЕТ, А ТОТ ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ОБРУШИВАЕТСЯ НА НЕГО С ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ЗЕРКАЛЬНОСТЬЮ. ТАК БЫЛО С ТЭФФИ, С РОМЕНОМ ГАРИ. С ВАМИ ТАКОЕ СЛУЧАЛОСЬ?
– Я настолько хорошо знакома с этим потусторонним законом и настолько в него верю, что в каждое новое литературное плавание отправляюсь как сталкер – в зону, не зная, вернусь ли целой. Пока писала повесть «Высокая вода венецианцев», где смертельно больная героиня отправляется в Венецию, раза два добивалась у врачей тщательных обследований. А мама моя вообще плакала… Вроде, пока пронесло… не знаю – надолго ли… В этом отношении наша профессия, «создание параллельных реальностей» так же опасна, как опасно дело ликвидаторов. Все время ждешь определенной дозы облучения.

Но бывают и очень смешные «обратки». В романе «Синдикат» я описываю деятельность особого отдела некой гигантской организации, которая занимается розыском бесследно исчезнувших израилевых колен, угнанных когда-то в древности из страны Навуходоносором. Эти ушлые чиновники, дабы не потерять деньги американских спонсоров, «находят» потерянные колена то на Крайнем Севере, то в джунглях Амазонки… Словом, сочиняя, я повеселилась на славу, погуляла по просторам материков. И вот, не так давно, читаю в одной из авторитетных израильских газет, что некое племя «майори» в Новой Зеландии объявило себя потомками потерянных колен. Поди, после такого, еще что-то придумывай!
Картинка по теме:
Наш приятель, американский дипломат Илья Левин три года служил в Эритрее. Когда я впервые услышала название страны, я даже не поняла – о чем идет речь. Выяснилось, что это государство такое в Восточной Африке, на берегу Красного моря. Кстати, недалеко от нас.
Эритрейцы, рассказывал Илюша, люди темнокожие, однако с тонкими удлиненными лицами, выразительными чертами; встречаются и очень красивые экземпляры. Сами считают, что происходят от царицы Савской и царя Соломона. Исповедуют какую-то раннюю форму христианства, близкую к иудаизму. Носят сплошь и рядом библейские имена.
Например, девушку, которая ходила к Илюше убирать, звали Ерузалем. А садовника вообще простенько звали: Адонай (молитвенное обращение к Богу).
Илюша сфотографировал на улицах несколько лиц, поразительно напомнивших ему лица знакомых и друзей, только темнокожих.
– И что любопытно, – говорит он, – эритрейцы – расисты. Внимательно следят за родословной, предков знают до десятого колена. Презрительно относятся к неграм, так и называют их – «негры».
– Вот скоро будет у меня дочь выходить замуж, – рассказывает повар дипломатической миссии. – И что ж вы думаете – я внимательно изучу родословную жениха: нет ли там негров! – При этом устрашающе выкатывает на Илью белки глаз, раздувает черные ноздри…
В стране безобразничают обезьяны – приземистые крепкие бабуины. Они нападают на людей, особенно в поисках жратвы. Причем, действуют по двое, как бытовые хулиганы. Идет, скажем, человек из магазина с полными сумками еды. Па него нападают бабуины: один сзади хватает за волосы, оттягивает голову, другой жилистым кулаком бьет прямо в лицо. Человек от боли и неожиданности роняет сумки, те хватают их – и таковы. Прямо национальное бедствие.
В стране есть и европейские евреи. Раньше их было человек пятьсот, но когда к власти пришли коммунисты, за считанные месяцы все они страну покинули. Сохранилась синагога, напоминающая старые пражские синагоги – с благородной гулкой пустотой внутри. Сейчас за ней присматривают двое – дядя и племянник. Причем, когда один выезжает из страны, другой всегда остается – присмотреть за хозяйством.
Илюша долго не мог попасть в эту синагогу – она большую часть времени закрыта. Наконец, кто-то из американской миссии сказал, что завтра, в субботу, синагогу откроют, и требуется миньян – непременные десять человек для молитвы, – это была годовщина смерти то ли жены дяди, то ли матери племянника.
Илья пришел, собрался миньян: двое из американской миссии, один человек из британской, один – из французской. И рыбаки с израильского судна, стоявшего в порту.
Илья говорит:
– Я был очень напряжен, боялся своего невежества, боялся, что вызовут к Торе, а я ну такой неотесанный по части молитв! Однако напрасно боялся: самыми непросвещенными в религиозном культе оказались израильские рыбаки.
– Да? – удивилась я. – Почему?
– Потому что родом они были из Астрахани.
– ВАША ТОЧКА ЗРЕНИЯ: ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ИНТЕРЕСНЕЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ?
– О да, несравнимо! Ведь литературная реальность это и есть – настоящая идеальная жизнь, в том смысле, что «история» ее очищена от ненужных деталей, бездарно прожитого времени, лишних в твоей судьбе людей, и у героев нет ощущения, что они совершают совсем не те поступки, какие им положено совершить, – то, что нас постоянно преследует в жизни.
– СКАЖИТЕ, ДИНА, ЭТА ДАЖЕ НЕ РЕАЛИСТИЧНОСТЬ, А ЗНАКОМОСТЬ ПЕРСОНАЖЕЙ – ВАШ ФИРМЕННЫЙ ХОД? ОСОБЫЙ ПРИЕМ МАСТЕРА? ИЛИ ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ, И ВСЕ ТУТ?
– «Так получается, и все тут» – это несбыточная мечта юного графомана, такая грёза о Музе, которая явится, погладит по макушке, мимоходом наваяет тебе шедевр – «и все тут». В реальности это семнадцатый вариант диалога, от которого тебя с утра тошнит, и который завтра все равно переделываешь в восемнадцатый раз. Персонажи очень взыскательно относятся к тому, сколько времени ты им посвящаешь: «Ах, ты занималась моей походкой две минуты? Не пойду. Или пойду так, чтоб читатель не поверил ни единому шагу».
Выдающийся художник Эжен Делакруа говорил: «Время не щадит то, что сделано без затраты времени».
– ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТРЕЧИ С КЕМ-ЛИБО ИЗ ПИСАТЕЛЕЙ-КЛАССИКОВ (И НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПИСАТЕЛЕЙ, НО УЖЕ УШЕДШИХ), С КЕМ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ПОБЕСЕДОВАТЬ?
– Нет-нет, увольте. Знаете, ведь никто из них не был симпатичным человеком, в том смысле, в каком нам хотелось бы видеть кумира. И все лучшее, что нёс на земле их дух, все великое, что породила их муза, у нас уже есть. Довольно. Все остальное – всего лишь оболочка со скверным, чаще всего, характером, недостатками, а то и пороками, из которых самый невинный – пьянство… Вы полагаете, милый разговор у нас получился бы с Гоголем, творчество которого я весьма почитаю? С Достоевским (мне даже представить мучительно свою встречу с этим омерзительным ксенофобом)? Или вы думаете, что вам показался бы душкой Лев Николаевич Толстой? Чехов, пожалуй, был бы, по крайней мере, вежлив, но душу вам тоже вряд ли бы раскрыл…
Все это были, прежде всего, люди, люди – со своими болезнями, своими пристрастиями… Со своими чудовищными странностями!
Скажем, есть в Швейцарии знаменитый водопад: ослепительная стена серебряных брызг, грандиозная и величественная… На протяжении веков множество великих воспело этот водопад: о нем слагали стихи Гете и Шиллер, Карамзин описывал его в своих «Записках русского путешественника», Наполеон упоминал с восторгом. Александр Первый заказал известному художнику свой портрет на фоне этого самого водопада… В свое время навестил Швейцарию и Лев Толстой, зеркало русской революции, совесть нации, выразитель народных чаяний. Осмотрел достопримечательность и написал в дневнике что-то вроде: «Видел здешний водопад. Совершенно бесполезное зрелище!»

Нет, писателей давайте читать, смотреть картины живописцев, внимать игре выдающихся актеров, слушать записи великих певцов. Это вершины человеческого духа в очищенном, так сказать, виде. Хотя, конечно, есть люди, о которых я вспоминаю с радостью и сжатием сердечной мышцы. Жалею, что мало виделась с Зиновием Ефимовичем Гердтом, например. Но это уникальный случай равенства высокой души с великим талантом артиста. Причем, его жена, Татьяна Александровна Правдина, – вот уж кто ему под стать.
Говорят, мэр городка, где родился Зиновий Ефимович, решил установить ему памятник. Заказали работу какому-то известному скульптору, хороший получился памятник. И вот перед установкой мэр звонит, говорит:
– Татьяна Александровна, я решил на постаменте выбить такую надпись: «Великому артисту».
Татьяна Александровна помолчала и сказала:
– Оставьте что-нибудь Чаплину.
Знаете, когда я услышала эту историю, то сразу представила, как в ту минуту из-за плеча Тани выглядывает сам Гердт.
– ЧИТАТЕЛЕЙ ВСЕГДА ВОЛНУЕТ, КАКОВО СООТНОШЕНИЕ ПРАВДЫ И ВЫМЫСЛА В КНИГЕ. ЕСТЬ ЛИ У ГЕРОЕВ РЕАЛЬНЫЕ ПРОТОТИПЫ? ВЕДЬ, ВСКРЫВАЯ НАРЫВЫ, ПОНЕВОЛЕ ПРИЧИНЯЕШЬ БОЛЬ. СЛУЧАЛОСЬ ЛИ СТАЛКИВАТЬСЯ С ОБИДОЙ И НЕПОНИМАНИЕМ СО СТОРОНЫ ПРОТОТИПОВ?
– О, это мой любимый вопрос. Обида? Непонимание? А судебный иск тысяч на 250 шекелей – не хотите ли? А тьма тьмущая денег, ухлопанная на адвоката, который должен доказать, что ты не верблюд? Хотя сам-то ты уж точно знаешь, что – верблюд, верблюд, да что там верблюд, – волк, шакал, гиена!
Ведь это особый природный процесс – создание иной реальности, художественного произведения. Ну, казалось бы: что тебе стоит изменить внешность героя, чтобы он резко отличался от прототипа, тем более, что в тексте герой все равно всегда получается совсем иным? Поменять ему имя, биографию, пол, наконец?!
Увы, это почти наверняка убьет вещь в зародыше, поскольку на первом этапе создания текста, пока герой не зажил своей собственной жизнью, он соединен с прототипом живой и тонкой нитью примет облика, деталей биографии, звучания имени… Зато потом, когда герой начинает жить собственной жизнью, прототип, как говорят подростки, «может отдыхать» – он становится настолько бледной тенью литературного персонажа (при условии талантливости автора произведения, конечно), настолько по сравнению с ним не интересен, что и говорить не о чем. По моему глубокому убеждению, прототипы персонажей, даже тех, которых критики называют «отрицательными», должны были бы платить нам, авторам, за увековечивание. Ведь это поистине «памятник нерукотворный».
– ОДИН ГЕРОЙ ГОГОЛЯ СТРАШНО БОЯЛСЯ, ЧТО КАКОЙ-НИБУДЬ АВТОР ЕГО В «КОМЕДИЮ ВСТАВИТ», «ЧИНА, ЗВАНИЯ НЕ ПОЩАДИТ, И БУДУТ ВСЕ СКАЛИТЬ ЗУБЫ И БИТЬ В ЛАДОШИ». ВАМ ПОНЯТЕН ЕГО УЖАС?
– Еще как понятен, а что поделаешь? Действие пьесы Гоголя «Ревизор» происходит в городе, если не ошибаюсь, Устюг. Говорят, чиновники себя узнали, был скандал… Ну, и кому это сейчас интересно? С внутренним трепетом надо не писателем становиться, а няней в детском саду. Писатель – человек тяжелый, необходительный, и дело имеет с инструментом тяжелым, острым, опасным – как каменщик. Работает – искры сыплются. К тому же, так называемый прототип, сверяя внешность и примеряя одежды героя, слишком много берет на себя, слишком нагличает: персонаж всегда его острее, рельефней, значительней и поучительней. Поскольку он – литература. Кто-то из писателей замечательно сказал: «Жизнь – черновик литературы».
Правда ведь не в буквализме, а в подлинности ощущений. В моей книге «Несколько торопливых слов любви» есть новелла о моей сестре – «Альт перелетный». Сестра позвонила из Бостона нашей маме и сказала: «Все врет, все врет! Ни одного слова правды!» Мама прочитала новеллу и сказала мне: «Я проплакала целую ночь. Все – чистая правда».
Причем, я еще не самый злостный «пользователь всего живого».
Приятель Ярослава Гашека, переводчик с древнегреческого, однажды сказал ему: «Ты можешь писать обо мне все, что угодно. Можешь даже написать, что я горький пьяница, но не приписывай мне того, что я не говорил».
Гашек тут же написал (передаю по смыслу): «Мой приятель такой-то просил не приписывать ему чужих мыслей. Но у него своих мыслей никогда и не было. Он всю жизнь переводит мысли великих – Гомера, Платона, Аристотеля, – которые и пересказывает собутыльникам в пивной, когда напивается, как свинья. Правда, о том, что он напивается, как свинья, он мне позволил писать».

С точки зрения обывателя, подобный ход, разумеется, верх неприличия, даже подлость. С точки зрения писателя, не дело даже задумываться над тем, прав он или не прав. Он просто орудие. И надо быть готовым, что от тебя отвернутся близкие, что, в конце концов, ты останешься одиноким, как желтый огурец в осеннем поле. И не бояться. Ничего не бояться.
«Страх писателя грозит потерей квалификации» – говорил Михаил Зощенко.
А судебный иск, разборки, иногда мордобой, – все это замечательно для творческой биографии. Это свидетельствует о литературной качественности фантомов. Значит, фантом оказался настолько живым, – как пражский Голем, который охранял ворота гетто, – что посторонние его боятся.
Если же отвечать серьезно – ни одни аптекарские весы на свете не покажут вам точного соотношения в тексте правды и вымысла. Вымысел беспределен; он проникает в каждую пору так называемой «правды», которой вообще-то не существует, вернее, которая существует в бесчисленном множестве вариантов, и лепит истинную правду – художественную. Очень точно об этом написал прозаик Александр Мелихов: «Никакие предметы не могут быть прекрасными – прекрасными бывают лишь рассказы о предметах».
– ВАШ МУЖ, ХУДОЖНИК БОРИС КАРАФЁЛОВ, ЧАСТО ОФОРМЛЯЕТ И ИЛЛЮСТРИРУЕТ ВАШИ КНИГИ. ДОСТАТОЧНО ВСПОМНИТЬ СБОРНИКИ «ХОЛОДНАЯ ВЕСНА В ПРОВАНСЕ» И «ЦЫГАНКА», ЦЕЛУЮ СЕРИЮ ОБЛОЖЕК. КТО БЫЛ ИНИЦИАТОРОМ ТОГО, ЧТО РАБОТЫ ВАШЕГО СУПРУГА СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ В ВАШИХ КНИГАХ?
– Так ведь иллюстрирование книг жены-писательницы самая-то и есть супружеская обязанность мужа-художника. В этом нет ничего удивительного, я таких пар знаю немало. Например, книги Марины Москвиной почти всегда оформляет ее муж Леонид Тишков. Это естественно: художник не только читает готовую рукопись, но и присутствует при ее постепенном рождении, выслушивает всякие попутные глупости по теме, покорно сидит, когда ему читают куски, опять покорно сидит, когда читают переделанную рукопись, потом бесконечно сидит над рисунками, которые жена бракует, бракует и бракует, чего бы она никогда себе не позволила в совместной работе с посторонним человеком… Это и называется содружеством двух творческих личностей, измученных друг другом.
Вообще, я с художниками всегда дружу. Это рабочие искренние люди, в большинстве своем далекие от подсиживаний и дрязг. Я ведь, не забывайте, и дочь художника, с четырех лет – модель. Причем, отец у меня человек строгий: как посадил, так и сиди, даже если у тебя правая нога отваливается, а левая рука превратилась в кусок копченой колбасы. Чуть подбородок опустишь, папа нахмурится и черенком кисти его «подправит», весьма чувствительно. С детства мои ноздри щекотал запах скипидара, лака, краски, клея от свежего холста, запах дерева – от новеньких подрамников… Я художников люблю, это все моя среда, моя жизнь…
– КАК ДВЕ ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТИ УЖИВАЮТСЯ В ОДНОМ ДОМЕ? ЭТО КОМФОРТНО, КОГДА В СЕМЬЕ ВСЕ ТВОРЯТ?
– Что вы, какой там комфорт – в творческой семье! В творчестве – все дискомфорт.
Писателю нужен муж, который бы таскал рукописи по издательствам, подшивал рецензии, счета оплачивал. Художнику – жена, которая варит, стирает, подает и преданно выслушивает «мисли», как говорила моя бабушка. А мы оба – сиротки в этом смысле. Ну, что я буду морочить ему голову своими текстами, когда он в данный момент озабочен тем, как соединить в картине желтое с зеленым…
Но мы уже сросшаяся пара. И оба великодушны: не считаемся забитыми гвоздями и сваренными борщами, и слишком заняты каждый своим делом. Это самый лучший рецепт для спокойной семейной жизни. Когда же приходит третий счет за электричество или квартиру с восклицательным знаком и картинкой, на которой изображено – как из дома выносят мебель судебные исполнители, мы идем и оплачиваем счет вместе.
С годами учишься разграничивать личную жизнь и творчество, время работать и время приникнуть друг к другу.
– ЛИТЕРАТОР ВСЕГДА НЕВОЛЬНО ВЫСТУПАЕТ В РОЛИ СОВЕТЧИКА. ОТ НЕГО ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖДУТ ОТКРОВЕНИЙ, КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ В СУДЬБАХ ДРУГИХ. ВЫ ЭТУ РОЛЬ НА СЕБЯ ПРИМЕРЯЕТЕ?
– Ну, какие советы может дать человек, не чуждый всех пластов ненормативной лексики! От меня надо вообще подальше держаться, а не советов спрашивать.
И потом, представляете, какой наглостью надо обладать, чтобы захотеть менять что-то в судьбах других, и полагать, что тебе это по силам. Нет, я никогда никаких ролей на себя не примеряла, я поэтому даже и актрисой не стала, хотя имею явные способности к этому занятию. Складывание букв в слова, слова – во фразы, и так далее – сугубо частное дело психически неуравновешенных людей.
Дай Бог с этим как-то самой жить научиться, а других учить – нет уж, увольте!

– ВЫ, КОГДА ПИШЕТЕ, ГОРИТЕ?
– Да что вы, это поэту положено гореть; они погорят-погорят, глядишь, стихотворение выйдет в несколько строк. Мы, прозаики – тяжеловесы. Нелегкая работка, между прочим – написать, скажем, текст страниц на тридцать. Не говоря уже о романе – на пятьсот. В нашем деле горение только мешает. Прозаику нужна тишина, покой и много часов невылазной работы. С годами это становится таким способом дышать, системой кровообращения. А существовать без этого уже невозможно. Ты становишься рабом работы. Тебе уже необходимо буквочки складывать в слова. Поэтому, к концу любых гастролей, любой поездки я начинаю раздражаться, уходить от общения. Когда человеку долго зажимают рот, он начинает задыхаться.
– ЧЕМ ВЫ ЗАПОЛНЯЕТЕ ТАК НАЗЫВАЕМОЕ ВРЕМЯ «ДЛЯ СЕБЯ», ЕСЛИ ОНО ВООБЩЕ КАК ТАКОВОЕ У ВАС ИМЕЕТСЯ?
– В основном, читаю. Бывает, шляюсь по улицам, подглядываю, подслушиваю, ловлю мух, галок, ворон… Забрасываю сети, вытаскиваю рыбку – если повезет… Нормальное времяпрепровождение джентльмена в поисках сюжета.
– К ВАШЕМУ ИМЕНИ ЧАСТО ПРИСОЕДИНЯЮТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ВЫ ОЩУЩАЕТЕ СЕБЯ ЕВРЕЙСКИМ ОТДЕЛОМ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ?
– Нет уж, никаким отделом я себя не ощущаю, и вообще бегу от всего, что поделено, построено в ряды, ориентировано на… Кроме того, никто еще не определил точно, что такое еврейская или русская литература. Франц Кафка – он еврейский писатель, или немецкий, или чешский? А проза Фазиля Искандера – абхазская литература или русская? Для искусства важен психофизический склад личности писателя. «Лолита» Набокова – американский роман, но написан человеком с русско-чувствующим сознанием. Это потрясающее слияние. Вот и я – человек, безусловно, русского аппарата изъяснения. И в то же время очень чутка к национальным своим корням…
– ВЫ ЧЕЛОВЕК ШИРОКИЙ К СОБРАТЬЯМ-ПИСАТЕЛЯМ?
– Ой, нет. Очень узкий – если я правильно поняла, что вы имели в виду. То есть, конечно, я весьма лояльна и коллегиальна на разных профессиональных встречах и семинарах. Если что в моих силах – помогу, дам наводку в издательство, познакомлю со знакомым редактором; если просят, не откажусь вести вечер-презентацию чьей-нибудь новой книги… Но… понимаете, я не могу отключить у себя в мозгу такой спецприбор, фиксирующий все смешное и нелепое. Помню, реакция многих «заинтересованных» читателей на мой, достаточно острый, бурлескный роман-комикс «Синдикат» была: «Очень зло написано». Наверное… В таких случаях я обычно смиренно добавляю, что сама являюсь первым объектом собственной безжалостной насмешки. Правда, это мало кого успокаивает…
Картинка по теме:
Я видала разных львов в своей разъездной жизни: крылатых львов Венеции, задиристых, с поднятыми лапами львов Иерусалима, величаво возлежащих пражских львов…. Но в этих было что-то патологическое. Возможно, виновата вульгарная серебряная краска, которой их покрывали каждый год. Но, главное, выражение их совершенно по-человечески запущенных, каких-то изголодавшихся лиц: в руках (!) – да, именно так выглядели длинные и загнутые на манер сжатых пальцев когти их лап, – львы алчно сжимали огромную кость неизвестного происхождения, надеюсь, не хирургического (над крыльцом красовалась вывеска: «Хирургическое отделение психиатрической больницы») и уже вот-вот готовы были приступить к трапезе, – во всяком случае, так выглядели их оскаленные серебряные пасти…
Больница находилась на территории Ясной Поляны, основана была некогда самим Львом Николаевичем Толстым, и гуляющие по территории писатели, ежегодно съезжающиеся сюда для обмена мыслями и фобиями, весьма далекие от графа и в том, что касается его доходов, его философии, его стилистики, его фобий и, главное, его гения, – любили фотографироваться на фоне этих чудовищ.
Кстати, по поводу фобий: у писателей их было достаточно. К тому же, как известно, писателю трудно смолчать, если что его терзает. А во все времена всего того, что может терзать писателя, так много, что на обмен этими, записанными мыслями, уходили долгие часы заседаний. Писатели народ письменной культуры, не все они умеют говорить, да и их мысли, даже грамотно изложенные, не всегда могут захватить аудиторию. Капризная и коварная эта субстанция: внимающая душа зала. Чтобы ею завладеть, тоже нужны если не талант, то уж сноровка, которая, увы, среди писателей встречается крайне редко.
А тут, в Ясной Поляне, в тени величия знаменитой веймутовой сосны, над которой витало еще более осязаемое величие гениального хозяина усадьбы, невнятно выраженные эти фобии разных сортов и направлений звучали совсем уже заунывно. Если не сказать – жалко.
– Видишь, – шепнула мне Марина Москвина, – в детской аудитории это не проканает. В детской аудитории, если такой шамкающий мудак выйдет и скажет что-нибудь, вроде: «Дети, я расскажу вам сказку…» – то какой-нибудь Андрюха в третьем ряду обязательно крикнет: «Как дед насрал в коляску?»
– Детей ты должен завоевать, – добавила Марина. – Перед ними надо вытаскивать из рюкзака перо жар-птицы, морскую раковину с подводным гулом, челюсть доисторического осла… Это огромная работа – по завоеванию детского внимания… А тут вот, видишь… – и она сердобольно вздохнула, – какие бедняги…
– КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К ПУБЛИКАЦИИ СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСКИ С КЕМ-ТО ИЗ БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ?
– Боже упаси! Я человек скабрезный, с прищуренным глазом и острым языком, с подчас неконтролируемым чувством смешного… мало ли чего я понапишу в личных письмах по частному поводу! У всех нас – после нас – остаются дети и внуки, к чему им-то расхлебывать все эти запутанные хитросплетения отношений. Нет, нет и нет. Сжечь вместе с бабушкой весь ее архив к чертовой матери!
– МНОГИЕ КРИТИКИ СТАВЯТ В РЯД ЕДИНОГО НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО РОМАНА ТАКИХ ПИСАТЕЛЬНИЦ, КАК ДИНА РУБИНА, ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ, ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ, ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ, ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА? ПОХОЖИ ЛИ ЧЕМ-ТО ЭТИ АВТОРЫ, ЕСТЬ ЛИ У НИХ ОБЩИЕ ЧЕРТЫ? И ЕСЛИ НЕ НАЗЫВАТЬ ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ «ЖЕНСКИМ РОМАНОМ», ТО КАК ЕЮ НАЗВАТЬ?
– Назовите его мужским романом женского происхождения, это будет довольно точно. Все, перечисленные вами писательницы – люди сильные, талантливые, успешные. Только этим и похожи.
Понимаете, у нас есть писатели-мужчины и писатели-женщины, третьего природой не дано. Писатели-мужчины гуляют себе своими путями, никому не приходит в голову, свистнув, построить их в ряды. Почему-то в отношении к писателям «женского происхождения» всякому хочется их построить, обозначить, пронумеровать, как стадо коров. Это какие-то животноводческие позывы, вы не находите?
Давайте оставим всех писателей в покое, пусть гуляют сами по себе, они все особы одинокие по профессии, каждый – единственный, и обижаются, когда их вызывают из строя, как первогодок, и перечисляют через запятую.
– В ПРОЗЕ ВЫ ПРОЯВЛЯЕТЕ СЕБЯ В РАЗНЫХ ИПОСТАСЯХ, СРЕДИ ВАШИХ РОМАНОВ – И АВАНТЮРНО-ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ В СОЧЕТАНИИ С ЭЛЕГИКО-МЕМУАРНЫМ ЖАНРОМ, И РОМАН-КОМИКС, СОЧЕТАЮЩИЙ ОСТРЫЙ ГРОТЕСК С НЕПОТРЕБСТВОМ ЖИЗНИ. КАКОВА ЛОГИКА ЭТИХ ПЕРЕХОДОВ И ЧТО ВАМ БЛИЖЕ – ВЕРОЯТНО, ТО, ЧЕМ ЗАНИМАЕТЕСЬ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ?
– Логика переходов диктуется панической боязнью окаменелости стиля, «лица». Все чудится, что гонится за мной страшенный литературный критик со штампом в ручище: проштамповать, отнести к течению, запротоколировать, навесить бирку и поставить на проименованную полку. Например, полку «женского романа».
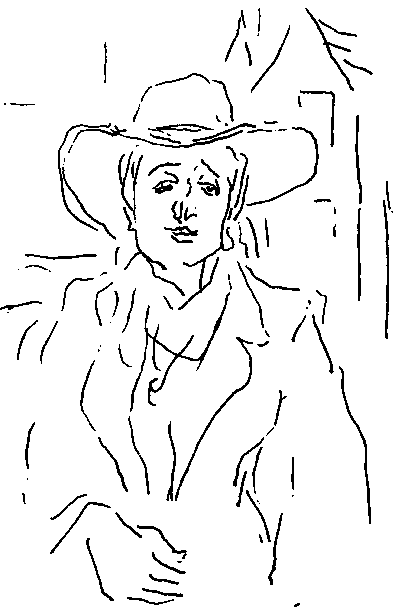
Это прежде всего – интуитивное желание замести следы. Наверное, в одной из прошлых жизней я была какой-нибудь международной авантюристкой с набором в чемодане паспортов на имена разных женщин…
Если серьезно, то каждому следующему опусу предшествует нота, слабо звучащая где-то в области диафрагмы. Слабая такая нота, дребезжание интонации… Знаете, когда слушаешь хороший джаз, то после того, как смолкнут аплодисменты и наступает тишина… сначала так нейтрально метут метелки, задавая ритм… потом вступает мерный топ тарелок… наконец возникает саксофон… и ты уже понимаешь, ощущаешь – не что-нибудь, а объем и настроение вещи… Вот так и у меня. Сначала я чувствую общую интонацию и некий объем, потом уже начинается история – соответствующая история.
А которая из интонаций ближе – сказать трудно.
– ПЕРЕЧИТЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ ТО, ЧТО НАПИСАЛИ В 16, 17, 18 ЛЕТ И КАК ОТНОСИТЕСЬ К ЭТИМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ? ЧАСТО ЛИ ВЫ ВООБЩЕ ЧИТАЕТЕ СЕБЯ? И ЕСЛИ ЧИТАЕТЕ, КАКИЕ ЧУВСТВА ИСПЫТЫВАЕТЕ?
– Увы, я вынуждена перечитывать то, что наваяла чуть ли не в яслях, когда выходят переиздания моих книг – авторскую вычитку никто не отменит. Хотя, часто мухлюю: если мне кажется, что корректор хорошо поработал, я халтурно пробегаю сконфуженным взором тексты этой заядлой задрыги, которой некогда была…
По этому поводу вспоминаю одного соседа с нашего ташкентского двора, дядю Володю. Он должен был писать какую-то свою диссертацию по марксизму-ленинизму Но не любил писать и до смерти не хотел этим заниматься.

С утра он переделывал всю домашнюю работу в доме, – мыл посуду, готовил обед, стирал, развешивал белье, гладил высохшее… А когда в доме совсем уж нечего было делать, говорил: «А теперь пойдем, покормим собачек», – и выходил во двор кормить приблудных дворняг.
Примерно так я вычитываю свои старые повести и рассказы.
Вообще, никогда не могла понять нежной любви писателей к своим старым текстам. Впрочем, если не ошибаюсь, Лев Толстой однажды нашел в столе какой-то лист бумаги, написанный от руки… прочитал его, сказал: «…а ведь хорошо написано. Кто автор?» И с удивлением обнаружил, что автор – он сам.
– ЧТО ИНТЕРЕСНЕЕ: ВСПОМИНАТЬ И ВОССОЗДАВАТЬ СВОЕ ПРОШЛОЕ ИЛИ ПРИДУМЫВАТЬ НОВЫХ ГЕРОЕВ И НОВЫЙ МИР? ВООБЩЕ – НИКОГДА НЕ ХОТЕЛОСЬ ВАМ ОТДОХНУТЬ, ОТКЛЮЧИТЬСЯ, ПЕРЕСТАТЬ СОЧИНЯТЬ?..
– Интересно бывает коллекционировать значки или марки. Заниматься чем угодно, но в охотку, в свободное время, для развлечения-увлечения… Спросите хирурга – ему интересно делать пятьсот первую операцию на сердце? А когда он ответит, предложите ему отдохнуть и никогда больше не брать в руки скальпель. Представили, что он НА ЭТО ответит?
Любой профессионал занимается своим делом не потому, что это интересно, увлекательно, а потому что без этого немедленно перестанет дышать. Творчество – смертельная воронка, из которой выхода нет. Спасти от творчества может только беспамятство, чего я никому не желаю. Ну, а что касается – вспоминать или воссоздавать… Это процессы нерасчленимые, взаимопроникаемые, вернее, это один процесс…
– ЧТО СЛОЖНЕЕ ПИСАТЬ – РОМАН ИЛИ РАССКАЗ?
– Это разное приложение сил, разные сферы деятельности. Все равно, что вы спросите – что труднее: поднять стокилограммовую штангу, или расписать палехскую шкатулку.
Рассказ – точно по этому поводу сказал Михаил Веллер: «торпедный катер». Роман – «линкор» со всеми палубами, орудиями, шлюпками… Другая высота обзора, другой замах руки. Когда я отпишу роман, я всегда на какое-то время «меняю руку», и пишу сборник «мелочей».
– ВОТ ОН УЖЕ В КРАСИВОЙ ОБЛОЖКЕ, ВЫ ЕГО ЧИТАЕТЕ? НЕ ВОЗНИКАЕТ ЛИ ЖЕЛАНИЯ ПЕРЕПИСАТЬ, ЧТО-ТО ИСПРАВИТЬ?
– Возникает, непременно. Поэтому-то я стараюсь под готовую обложку не заглядывать.

– НАБОКОВ ПИСАЛ ОБ ОДНОМ ИЗ СВОИХ ПЕРСОНАЖЕЙ: «ЧЕЛОВЕК СО СЛИШКОМ ДОБРЫМИ ГЛАЗАМИ, ЧТОБЫ БЫТЬ КРУПНЫМ ПИСАТЕЛЕМ». ВАШИ НАХОДКИ ТИПА «ЛЕВАНТИЙСКИЙ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРПЕТУУМ» – ЭТО ОТ ДОСАДЫ, ПРОСТО ОБРАЗ – ИЛИ ДОБРАЯ, БЕЗЗЛОБНАЯ ШУТКА? ЕСТЬ СПИСОК КАЧЕСТВ – В ОКРУЖАЮЩИХ, – КОТОРЫЕ ВАС РАЗДРАЖАЮТ?
– Наоборот, меня все восхищает. Раздражение – плохой товарищ для прозаика, совсем негодный импульс для работы. В то же время не путайте профессионализм прозаика с его личными ежедневными эмоциями. Хотя, конечно, все начинается с эмоции. Работа будет потом. И в этом смысле, я не понимаю – что такое «добрая беззлобная шутка». Я создаю персонаж таким, каким он должен быть и нести свою функцию в романе, повести, рассказе. Я не подшучиваю над ним, не хвалю его, не одобряю и не осуждаю… Я – автор – объективна к нему. Как природа.
Дело не в доброте или злом саркастическом взгляде. Дело во внимании к деталям, походке, жесту, словам… Жизнь – любая жизнь – трагична и комична одновременно. Если смотреть на нее «добрыми глазами», рискуешь не обратить внимания на тысячи гротескных мелочей. Человек же, любой человек, вообще чрезвычайно смешон.
Понимаете, профессиональный писатель фиксирует своим глазом все, как камера слежения в магазине. Камера ведь не добрая и не злая, просто в ней отражается кусочек пространства с той жизнью, которая в какой-то период времени на этом пространстве происходит. Камера выхватит и трогательную девочку, которая поправляет сандалик на ножке годовалого братика в коляске, и инвалида на костылях, и воришку, стащившего с полки пачку леденцов, и юного онаниста за рядами пачек с «корнфлексом»… Писатель, конечно, отбирает детали и, конечно, в его воле придать «взгляду» его камеры то или иное направление. Но в однобоком отборе есть опасность антихудожественности, тенденциозности…

Да что там говорить. Прав великий Набоков, прав: мы – волки. Все писатели – хищники. А иначе в литературе не выжить. Но если вдруг я наталкиваюсь на нечто неординарное, то, конечно, любуюсь.
Соседи
В нашем подъезде меняют трубы.
Фраза, боюсь, получилась эпическая. Но и процедура эта весьма эпическая: целыми днями грохот и звон, будто у нас в подъезде полицейские ликвидируют пресловутый «подозрительный предмет». Замену труб осуществляет бригада арабских рабочих, а именно: Имад – полный, как вавилонская танцовщица, улыбчивый человек лет пятидесяти, и его подручный – безымянный бессловесный парень, который, собственно, и работает.
Имад – человек почтенный. Уже тридцать лет он, житель соседней – через ущелье – арабской деревни Аль-Азария (где когда-то Иисус воскрешал безнадежно умершего Лазаря), кочует с ремонтами из одного дома в нашем городке в другой. У него безупречная рабочая репутация, проникновенный влажный взгляд и широкая улыбка. Пожалуй, слишком широкая…
Название нашей улицы в переводе с иврита звучит изысканно – «Время соловья», – и это вполне определенный соловей, муэдзин деревни Аль-Азария. Ежедневно, часа в четыре утра, гнусавым рыком через громкоговоритель, установленный на куполе минарета, он окликает правоверных. И затем это повторяется еще четыре раза в день. В полдень бригадир Имад расстилает молитвенный коврик на площадке между этажами и, коленопреклоненный, бьет поклоны в сторону Мекки. Я в это время возвращаюсь с прогулки со своим псом Кондратом. Увидев молящегося Имада, я беру Кондрата на руки и на цыпочках проскальзываю мимо, к своей квартире. У нас здесь почитают все веры, – не дай Бог оскорбить религиозное чувство молящегося!
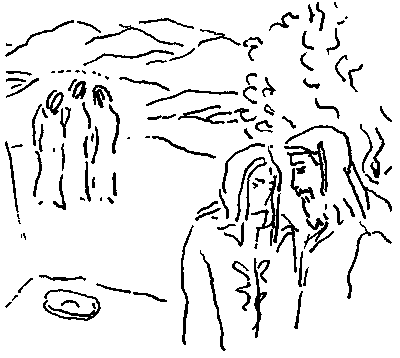
С Имадом я иногда перекидываюсь двумя-тремя словами на иврите, которым он владеет великолепно.
– Вот, думаю… – сказал он недавно. – Машину новую купить… или жену купить?..
– Зачем тебе еще одна жена?
– Старая рожать перестала…
– А сколько у тебя детей, Имад? – полюбопытствовала я.
– Семнадцать…
– Семнадцать… и тебе мало?!
Он помолчал, широко улыбнулся, показывая все зубы, сказал:
– Женщина должна приносить детей…
…Днем он звонит ко мне в квартиру и вежливо просит кофе. Я приглашаю обоих, включаю чайник, ставлю на стол чашки, молоко, банку с кофе, какие-то коржики и удаляюсь в кабинет: женщине не пристало сидеть за столом с мужчиной, да и о чем бы нам говорить?
В это время обычно передают новости. Попивая очень крепкий кофе, Имад со своим безмолвным рабом бесстрастно выслушивают очередные сообщения о том – сколько терактов за последнюю неделю предотвращено израильскими силами безопасности, сколько начиненных взрывчаткой молодых палестинских героев остановлено по пути к семидесяти гуриям, ожидающим их на небесах…
А я посматриваю с балкона в сторону дороги на Иерусалим, пытаясь понять – попаду ли я сегодня в такую же страшную пробку, как позавчера, когда солдаты на блокпосту проверяли не только каждую машину, но и вбегали в каждый автобус, дотошно заглядывая под сиденья и остро всматриваясь в лица, – видать, получили от внутренней разведки очередные «предупреждения»…
Вчера я угодила сразу в две истории: сначала на центральной автобусной станции, куда забежала выпить кофе по пути на урок вождения, по динамикам вдруг объявили о «подозрительном предмете» на пятом этаже станции; всех пассажиров минут сорок держали на третьем этаже, пока сверху не расстреляли рюкзак какого-то забывчивого олуха. Зато после урока вождения я попала в ту же историю уже на улице, по пути к остановке своего автобуса. Полицейская машина перегородила дорогу, публика теснилась в стороне, и уже вовсю шла подготовка к ликвидации «подозрительного предмета». А я по своему легкомыслию решила, что успею еще купить на лотке пирожок. И тогда взмыленный, с блестящим от пота лицом, молодой полицейский в похожем на скафандр бронежилете, защищающем все части тела, заорал на меня: «Гевэрет, тебя вся улица ждать должна?!» – И я поджала хвост и юркнула к огороженному участку. И вот тогда грохнуло по настоящему!
Но это было вчера…
А сегодня Имад попивает кофе и выслушивает очередные новости о том, что «всего в начале этой недели израильские спецслужбы располагали 42-мя предупреждениями о намерениях террористов совершить теракты на территории нашей страны»
– А ты не хочешь застеклить верхний балкон? – спрашивает меня Имад. – Я сделаю это недорого и качественно…
– Спасибо, Имад, – говорю я ему. – На днях улетаю в Европу, вот вернусь, тогда позвоню…
Он улыбается широкой, пожалуй, слишком широкой своей улыбкой, кивает…
– Лети с миром, – говорит он мне. – Лети с миром…
Глава третья «И будете, как во сне…»
«Персы, греки, римляне исчезли с лица земли, а маленький народ, родившийся задолго до этих многочисленных народов, все еще, ни с кем не смешиваясь, существует на обломках своей родины. И если есть что-либо в жизни народов, что может быть названо чудом, то только это».
Франсуа Рене де Шатобриан «Дневник путешествия из Парижа в Иерусалим», 1811 год
– ВЫ СОГЛАСНЫ С ВЫСКАЗЫВАНИЕМ МАРИИ РОЗАНОВОЙ: «ЭМИГРАЦИЯ – КАПЛЯ КРОВИ НАЦИИ, ВЗЯТАЯ НА АНАЛИЗ»?
– Капля, хм… это могут быть и потоки крови. Нация может истечь эмиграцией до полной анемии. С Россией это случалось не раз. Для этого и термин есть: «утечка мозгов».
Однако я согласна, что эмиграция – некий срез, по которому удобнее и легче изучать множество явлений и в обществе, и в человеческой натуре. Многое высвечивается, становится выпуклым. В эмиграции меняется освещение бытия, вот как в театре: другая сцена, включены другие софиты. Фикус в углу погашен, зато собачья миска на просцениуме освещена. Как сказал поэт: ряд волшебных (ужасных) изменений милого (кошмарного) лица.
– ВЫ ПИСАЛИ, ЧТО ЭМИГРАЦИЯ В КОНЦЕ 90-ГО В ИЗРАИЛЬ – ВАЖНЫЙ ДЛЯ ВАС РУБЕЖ. С ТЕХ ПОР ПРОШЛО НЕМАЛО ЛЕТ. НАВЕРНЯКА ПОЗАДИ ДУШЕВНЫЕ И ЖИТЕЙСКИЕ ПОТРЯСЕНИЯ, С КОТОРЫМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ДРУГУЮ СТРАНУ. СЕЙЧАС, СПУСТЯ ГОДЫ – ВЫ МОЖЕТЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ ПРИЧИНЫ, ПОБУДИВШИЕ ВАС К «ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ»?
– Знаете, все это очень сложно. Вот как раз много лет назад, по свежим следам своего переселения я охотно отвечала на подобные вопросы журналистов – мне их задавали все, кому не лень: в России, Израиле, Германии, Америке… Тогда мне казалось, что все объяснимо. Причины и поводы были самые разные.
Например, одним из поводов переезда в Израиль я считала мотив «корневой причастности». Человек в середине жизни всегда «зависает», оглядывается, понимая, что находится на некой умозрительной вершине. В обе стороны от него простираются ветви: еще живы родители, уже подрастают дети… И он сам – как центр, как опора – и для тех, и для других. Бывает, в эти годы кажется, что именно ты обязан совершить то кардинальное действие во имя рода, во имя будущих поколений, какого не совершили твои родители.
Картинка по теме:
Одна знакомая дама, русская парижанка, рассказала мне забавный случай, произошедший с ее подругой, молодой француженкой. Магистр психологии, та происходит из семьи потомственных виноделов где-то на юге Франции. А все эти потомственные виноделы просто жить не могут без своих поместий, без южного солнца, кистей винограда, напоенных этим солнцем. Вот и молодая француженка при каждой возможности старается приехать домой.
В один из таких приездов старший брат показывает ей письмо, полученное от ближайших соседей, семейства, скажем, Дюпре. Письмо по тону возмущенное, даже преисполненное гнева. Вот его смысл: «Мы, Дюпре, проживаем в этой местности уже 650 лет, и столько же наш род занимается виноделием. Вы, Теза, живете здесь всего 370 лет. И все это время ведете себя возмутительно: проезжая мимо нашего поместья, всегда отворачиваете головы, таким образом выражая нам презрение. Это продолжается с тех пор, как первый ваш Теза купил поместье у наших добрых соседей Вуажье в 1634 году! Сначала вы проезжали мимо на каретах, повозках, лошадях, потом на велосипедах, машинах, мотоциклах, и всегда – всегда! – воротили нос от нас, Дюпре! Выскочки безродные, доколе?! – доколе будет продолжаться эта демонстрация возмутительного высокомерия?!» Ну, и далее письмо было выдержано примерно в том же тоне…
Рассказывая, магистр психологии с усмешкой объяснила моей знакомой: поместья обоих семей действительно граничат друг с другом, и как раз на том повороте, где дорога ведет мимо поместья Дюпре, слева открывается роскошный вид на виноградники Теза. Само собой, все проезжавшие здесь в веках Теза поворачивали головы и любовались своими владениями…
К чему это я рассказываю? К тому, что в жизни каждого чувствующего человека наступает, очевидно, момент, когда хочется вернуться к своим виноградникам. Тем более, если твои предки их возделывали даже не 650, а пару тысяч лет назад. Я и вернулась. А сейчас все больше задумываюсь над неявными, не поверхностными причинами своего кардинального поступка. Господи, да вы хоть можете осознать, что это такое: русскому писателю прыгнуть в иноязычную бездну?..

– ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ ИЗ ПЕРВОЮ ЗНАКОМСТВА С ЗЕМЛЕЙ ОБЕТОВАННОЙ? МОЖЕТ БЫТЬ, КАКАЯ-ТО СЦЕНКА ИЛИ ДИАЛОГ…
– Сценка… Диалог… Очень смешно звучит, знаете ли… Это все равно, что попросить больного после тяжелого наркоза припомнить, во что была одета главная медсестра в приемном покое… Какая там сценка! Обморок, забытье, клиническая смерть… Мы ведь уезжали, повторю, в девяностом, навсегда, с потерей гражданства, обобранные до исподнего советским государством, нищие буквально. (Помнится, по приезде в сумке у меня почему-то оказались трусы сына, и трусы мужа, – я в них завернула любимый гжельский чайник, с которым не могла расстаться. Так, с двумя парами трусов и гжельским чайником, мы начали новую жизнь.)
…Ну, грохнулись на эту землю, как вы там говорите, обетованную, поначалу здорово задницы отбили… Впрочем, обо всем этом я ведь пишу и пишу в своих книгах.
А первое знакомство… Все очень странно. Прилетели в ноябре, ночью, лил страшный, какой-то вселенский дождь – разверзлись хляби небесные… Мы высадились из такси и побежали в гору, наверх, по каменным ступеням… Вбежали, совершенно мокрые, ошалевшие, в очень странную квартиру без прихожей – просто большая зала, каменные полы… Все как во сне. Вот в «Пророках» написано – «…и будете как во сне…»
В этой квартире жил с семьей брат моего мужа, тот, что уехал в Иерусалим за полгода до нашего приезда. Нас обсушили, напоили чаем и уложили в какой-то маленькой комнате со стеклянной дверью в патио.
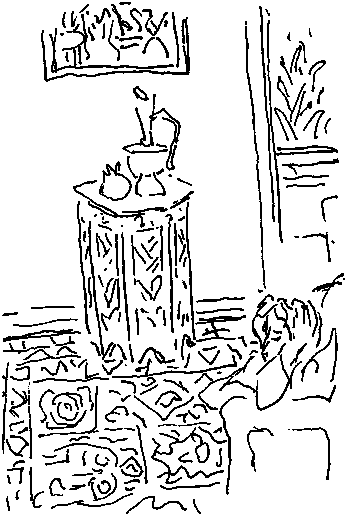
А утром я проснулась от звука мягких шлепков по мячу. Открываю глаза и через стеклянную дверь вижу: в солнечном патио подпрыгивает резиновый мячик, – упал с соседней верхней улицы, – весь район, как обычно в Иерусалиме, построен на горе. И оттуда, сквозь прутья железной ограды в патио заглядывает рожица какого-то пацана. А над ним – глянцевое синее небо и лиловые цветы какого-то плюща на желтоватой каменной кладке соседнего дома. И окна домов какие-то театрально-полукруглые. Помню, первую мысль: «Как-то все здесь слишком картинно…» Это после слякотного таможенного Шереметьева было довольно сильное впечатление… Я, как была, в ночной рубашке, вышла в патио, подобрала мячик и молча подбросила пацану. Он поймал и убежал…
– ВЫ РОСЛИ В ТАШКЕНТЕ, ЗНАЧИТ, ЕЩЕ ДО ИЗРАИЛЯ ЗНАЛИ ВОСТОЧНЫЙ МИР?
– Ну, все-таки не стоит путать Среднюю Азию с Израилем. Это распространенное и глубокое заблуждение, продиктованное первым впечатлением от израильского солнца и золотого купола мечети на Храмовой горе. Нет, здесь – Средиземноморье, это совершенно другое мироощущение, другие принципы отношения к жизни, другое отношение к женщине – а это, как известно, главный показатель цивилизованности общественного сознания. К тому же, эту страну строили выходцы из России, Украины, Польши, Германии. Кстати, годов до пятидесятых, до приезда миллиона евреев из стран арабского Востока, к женщине обращались не иначе как – «пани».

Я бы, скорее, сравнила Ташкент и, например, Иерусалим не по признаку «восточности», а вот по этому вавилонскому смешению языков, лиц, характеров, традиций. По освещению, по южной пылкости, по невротичной подвижности реакций… По некой доминанте, которую я назвала бы «домашностью жизни». С тобой – хочешь ты этого, или не хочешь – любой на улице может вступить в контакт, затеять беседу, причем, на любую тему.
Однажды зимой я возвращалась в Иерусалим из Хайфы, где выступала. Стою на остановке в ожидании автобуса, рядом со мной – небольшой такой старичок, клетчатая щегольская кепка на лысине. Поймал мой взгляд, подмигнул и говорит:
– Вы слышали – в Иерусалиме снег? Хотел бы я посмотреть на их рожи!
– АРТУР ШОПЕНГАУЭР ПИСАЛ: «КАЖДАЯ НАЦИЯ НАСМЕХАЕТСЯ НАД ДРУГОЙ, И ВСЕ ОНИ В ОДИНАКОВОЙ МЕРЕ ПРАВЫ». ВАШЕ МНЕНИЕ – ТАК ЛИ ЭТО?
– Конечно, правы. Но пророки рождаются в недрах тех наций, которые могут посмеяться над собой, своими вождями, своими табу. К своим безобразиям и глаз острее, и душа нетерпимее.
– ЧТО ВАС РАЗДРАЖАЕТ В ИЗРАИЛЕ, ЧТО ВРАЧУЕТ РАНЫ, НАНЕСЕННЫЕ ЭМИГРАЦИЕЙ?
– Что раздражает? Хамсины… но ведь это природное явление, правда? Глупо раздражаться на природу. Вот, в Костроме, Москве и Питере хамсинов нет. А в Ферганской долине вообще замечательный климат… Однако, мы зачем-то приехали сюда… Знаете, все эти чувства к стране у каждого отдельного человека зависят от уровня ожиданий. Если считать, что тебе все должны – вот, как обычно ребенок относится к взрослым: дай покушать, двадцатку на мороженое, организуй развлечения, и прочее… и если взрослые этого всего не обеспечивают, то, конечно, ребенок раздражается и капризничает. Если, наоборот, ты относишься к стране, как к подростку – ведь, в сущности, совсем молоденькая страна, страна-подросток: хамит, дерется, подворовывает, окружена нехорошей компанией… – то ты, как взрослый, понимаешь, что этого подростка надо растить, обучать, воспитывать, чувствовать ежедневную ответственность… Тогда твое отношение к ней совсем иначе называется. Озабоченность, скорее, а не раздражение…
Так, несколько лет назад журналистка одной газеты пыталась вызвать меня на поругивание «караванной жизни». «Караван» – это здешнее название такого вагончика на сваях. Когда в девяностых на Израиль обрушился чуть не миллион народу, то людей селили в таких вагончиках. Я ей сказала, что сама жила в «караване» год, посреди холмов, в очень опасном месте… Небольшое, конечно, но вполне человеческое жилье – телефон, туалет, душ, горячая вода, газ… Послушайте, здесь люди гибли в малярийных болотах совсем недавно. Все было вчера.
И никакие раны никто мне не наносил. При чем тут эмиграция? Есть мощный поток жизни, в котором мы плывем, крутясь, как щепки, выныривая на поверхность и затягиваясь в воронку. Страшная рана нанесена нам только тем, что в некий момент в нас проснулось сознание, и вот когда мы осознали, что однажды оно погаснет, мы и стали несчастнейшими – или счастливейшими, – это зависит от характера и манеры жить, – существами. Эмиграция лишь поворот в этом потоке жизни, поворот сюжета.
Впрочем, о раздражении. И это не раздражение даже, а бешенство: в Израиле безобразные водители. Каждый раз, выезжая из дому, я мысленно выхожу на бой.
Для борьбы с кошмаром дорожных аварий полиция придумала такую фишку: на бампер машины наклеен желтый плакатик с игривым вопросом: «Как я вожу?!» – и дан телефон, по которому возмущенные граждане могут звонить в полицию и сообщать, что такое-то «рено» или «даятсу» принадлежит дикому лихачу и хаму.
И вот мы с Борей едем на Север, в кибуц. Дорогу выбрали ту, что покороче, но поопасней, мимо Иерихона, вдоль границы с Иорданией, по пустынным холмам… В какой-то момент нас рискованно обгоняет армейский джип – бронетранспортер, на крыше которого ненавязчиво подпрыгивает пулемет, а внизу на бампере красуется все та же кокетливая табличка: «Ну, как я вожу?»
Дата добавления: 2015-06-30; просмотров: 284; Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница
|
следующая страница ==>
Глава первая «Балшой савецкий лит-ратура» | Туды-сюды

Мы поможем в написании ваших работ!