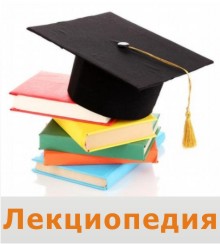
Главная страница Случайная лекция

Мы поможем в написании ваших работ!
Порталы:
БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика

Мы поможем в написании ваших работ!
НАЧШТАБА 3 страница
Костя побывал тут дважды, оставил в тайнике газеты.
Дом-музей был спасен Марией Павловной и ее помощницами: Диевой, Михеевой-Жуковой, Яновой. О Диевой Мария Павловна писала: «В течение годов оккупации П. П. Диева с необыкновенной трогательностью и любовью помогала мне сохранить последнее место жизни А. П. Чехова от возможного разграбления».
...Миллионы людей приезжают на крымские курорты.
Дорогой читатель! Наслаждаясь всеми прелестями чудесного уголка земли своей, подними голову, взгляни на горы, подумай о тех, кто не вернулся оттуда, чьи останки лежат под гранитными обелисками и в скромных могилах. Поклонись мертвым, скажи «до свидания» живым! [131]
ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ.
ЖИВИ, СЕВАСТОПОЛЬ!
На ялтинской набережной ко мне как-то подошел человек в железнодорожной форме и пресекавшимся от волнения голосом спросил:
— Это вы, товарищ командир?
Я буквально остолбенел:
— Не может быть! Томенко?
— Точно! Михаил Федорович Томенко и есть...
— Живой!
...Мы не виделись двадцать лет. Сколько раз выпадал и таял снег на крымских горах, сколько воды унесли бесчисленные горные речушки, как высоко поднялся тот дубняк, на опушке которого мы последний раз простились! Я оставался в глубоком тылу врага, а дорога Томенко лежала на запад: ему надо было перейти линию фронта, добраться до Севастополя.
Он ушел тогда в неуютный мартовский день и пропал. Исчез, и все! Мы давным-давно похоронили отважного партизана, бывшего машиниста депо станции Севастополь. Ведь нам достоверно сообщили: Томенко подорвался на немецкой мине.
И вот он жив, стоит рядом и не может скрыть слез.
Годы! Крепко они разрушают нашего брата. И на лице Михаила оставили отпечаток: глубокие борозды морщин, залысины, седоватые брови... Мы, пятидесятилетние, как правило, выглядим старше своих лет. Ведь не случайно в послужном списке солдата день, прожитый на войне, отмечается за три.
Это между прочим. Что касается всего остального — есть еще порох в лороховницах! Вон как живо смотрят глаза Михаила Федоровича, как энергично он рубит воздух рукой! Сразу чувствуешь: человек знает, зачем на земле живет, стоит на ней обеими ногами. Помнит такие детали, будто только вчера мы [132] расстались, а не в холодный мартовский день 1942 года. Не забыл, как мы с ним докурили последнюю самокрутку, в которой трофейный дюбек был перемешан с сухим дубовым листом.
О чем говорят два партизана при встрече? Мы обходились без привычных восклицаний: «А помнишь?», «А знаешь?» Мы все помнили, знали. Рубцы на сердце не сотрешь. Снова переживали незабываемое, будто вернулись к тем дням, каких у человека бывает не так уж много, но которые являются, может быть, самыми важными днями всей его жизни. Он, наверное, для них и рождается на свет белый.
Их было пятьсот человек. Они сражались за свой город, голубые бухты, землю с полынными косогорами, за древние виноградники. Им принадлежит целая страница подвига героического Севастополя, которая до сих пор не была по-настоящему известной. Мало кто знает правду о них: корабельцах, железнодорожниках, балаклавских рыбаках — потомках знаменитых листригонов, о виноделах и виноградарях, сынах древней южной земли, с ее Херсонесом, с присягой его граждан, высеченной на партенитском мраморе и дошедшей до наших дней: «...Я буду единомыслен относительно благосостояния и свободы города и сограждан и не предам ни Херсонеса... ни земли, которыми херсонеситы владеют... ничего, никому...»
Встреча до спазм сердца напомнила: самые трудные и памятные дни моей партизанской жизни прошли среди севастопольцев и балаклавцев. Я появился у них в драматический момент их борьбы с атакующим Севастополь врагом. Судьба забросила к ним нежданно-негаданно и взвалила на мои плечи непосильную ношу.
И тетрадь моя — скромная дань тем дням. Я пишу не исторический очерк и даже не воспоминания бывалого человека. Это — что видели мои глаза, что прошло через сердце.
Думая о прошлом, я смотрю на сегодняшние дни нашей жизни; живя сегодня, я четче вижу то, что было четверть века назад.
Мы едем в горы. Август дотла иссушил придорожные кюветы, и боковой горный ветер полощет в них свернутые листочки летнего листопада.
Нас много — киногруппа, поэтесса Римма Казакова, прозаик Георгий Радов, жена моя и мой сын. Среди нас женщина, к которой с нежной теплотой относимся мы все, особенно безусые солдаты, — Екатерина Павловна, жена бывшего комиссара Балаклавского отряда Александра Степановича Терлецкого.
Мы едем снимать кадры о подвиге Терлецкого, туда, в высокогорье, где я расстался с Александром Степановичем, ушедшим [133] по нашему приказу в Севастополь, осажденный фашистами.
Дорога, легшая по пустынному телу яйлы, привела нас в Чайный домик.
Мимо идут туристы с транзисторами, в защитных очках, веселые, занятые собой. Девчонки твистуют под музыку, с любопытством поглядывая на нас: почему мы хмуримся, когда им так весело?
Что они знают? Что для них Чайный домик, да и все эти горы, черные буковые леса, раскромсанные быстринами рек, гигантские стены застывшего диорита, буреломы, тропы? Природа!
Молчат горы, шумят под ветром буковые леса, бегут вечно говорливые реки. Раны на деревьях затянулись сизой корой. Время стирает следы человеческих драм. Идут туристы, и только остовы землянок с испепеленными бревнами да надмогильные кучи дикого камня говорят о том, что не так уж пустынен был древний крымский лес. И сейчас растут деревья, четверть века тому назад начиненные свинцом. Их не любят дровосеки. И когда буран или время свалит такое дерево — оно так и лежит нетронутым: берегут лесорубы топоры и пилы от свинца.
Мы расселись под раскидистой дикой грушей, и я рассказываю историю поляны, которая вокруг нас, гор, что полукольцом охватывают Чайный домик.
Я веду своих лесных гостей в пещеру. Узкая замшелая горловина, скользкие камни, темень — глаз выколи. Солдаты храбро спускаются в черную пасть провала, я впереди со своим сыном Володей, наши женщины не отстают.
Горит факел, вырывая под темным сводом сталактитовые наплывы, вокруг стоит гробовая тишина.
Могильная сырость окутывает нас, но я веду гостей своих дальше и дальше.
— Трое суток лежали здесь раненые, на четвертые вход в пещеру был взорван... — Мой голос клокочет в каменном мешке.
Вышли на простор, жмуримся от яркого дня, который нам кажется в тысячу раз светлее, чем полчаса назад.
У всех бледные лица, но испуг похож на испуг человека, который уже миновал пропасть.
Мы на вершине Орлиного Залета. Над нами действительно парят с размашистыми крыльями дремучие орлы, вглядываясь в незваных нарушителей их царства.
Под нами весь Крым до евпаторийских берегов. Мы смотрим на ковровые дали яйлы, на села, ожерельем нанизанные на упругие жилы изгибистых дорог и речушек.
Простор! Простор!
Мы вернулись в переполненную Ялту — молчаливые, взволнованные. [134] Трудно связать наши ощущения с курортным шумом, толкотней на пляжах, мелкими житейскими хлопотами. Мы прикоснулись к чему-то святому, и где-то в уголочках наших сердец на всю жизнь врезались минуты, пережитые в пещере. Римма Казакова написала стихотворение. Вот оно:
ПАРТИЗАНСКИЕ ТРОПЫ
Партизанскими тропами трудно идти,
хоть сейчас здесь — шоссе первоклассное.
Ярко-зелены
все кусты на пути,
а мне кажется —
ярко-красные.
А седой партизан
аккуратно, как гид,
новобранцев проводит по прошлому.
— Убит... убит... убит... убит! —
автоматною строчкою брошено.
А седой партизан — вот, ей-богу, седой, —
как в романах описывать принято.
Ну а младший солдат —
уж такой молодой!
Ни усинки еще не выбрито.
Ах, Орлиный Залет!
Чем-то в бездну зовет,
а ведь страшно и поглядеть с него.
А седой командир говорит нам: — Ну вот,
тут стоять довелось до последнего...
О жестокая служба!
Голa ты, яйлa.
Сколько здесь наших батек угробили!
Партизанские тропы, в Крыму. — до угла —
вы — видней, чем на глобусе — тропики.
Были, правда, пещеры... Ползем в сырине
с дымным факелом, цепко зажав его.
И — все годы — по мне, все горе — по мне,
все пули — от времени ржавые.
Как дрожали пещеры. Продрогли в мороз.
И гранаты нашарили щели их.
... В тишине кипарисов,
средь лоз
или роз
вы, пещеры, —
как люди пещерные.
[135]
А седой командир —
так жена говорит —
иногда — ну как будто бы бешеный.
Вдруг заплачет навзрыд...
Видно, сердце горит.
Слишком много на долю отвешено.
... Возвращаемся ночью с Ай-Петри, кружа.
Понемногу машина укачивает.
А ночь хороша.
А жизнь — хороша!
Ничего она — дрянь! — не утрачивает.
Кто-то рос сиротой.
Кто-то — мальчик! — и мертв.
Кто-то легким единственным дышит.
... Может, все ж их проймет:
кто не понял — поймет,
кто упрямо не слышал — услышит?!
Партизанские тропы,
кто вас исходил —
время сердца тому не излечит.
... Ты кричи, ты ругайся, седой командир!
Ничего,
наши нервы покрепче.
Ноябрь 1941 года!
До трагических дней Чайного домика еще много-много времени. Пока я их даже не предчувствую. Только что вышел из здания обкома партии, шагаю по переполненному войсками Симферополю в Центральный штаб партизанского движения. Он уже создан, действует.
Мне предстоит встреча с командующим партизанским движением Крыма, легендарным героем гражданской войны Алексеем Васильевичем Мокроусовым.
Конечно, волнуюсь. Еще бы! В жизни не видел живого героя с таким прославленным именем. А тут не просто встреча, а, можно сказать, определение всей моей судьбы.
Женщина с пристальными серыми глазами внимательно посмотрела на меня, и я догадался, что передо мной Ольга Александровна — супруга Мокроусова, в гимнастерке без петлиц, с дамским пистолетиком на новом командирском ремне.
— Закуривайте и успокойтесь, — подала она мне пачку «Беломора» и ушла в соседнюю комнату. [136]
Вошел Мокроусов — рослый, статный, спросил властно:
— Почему идешь партизанить?
— А больше некуда, товарищ командующий.
— Здоровье как?
— Меня хватит.
— Командиром твоим будет Бортников, Иван Максимович. В гражданскую партизанил. Повидай его. Он под Севастополем, в Атлаусе. — Мокроусов подошел к карте, показал где.
— Выеду завтра же! Разрешите идти?
— Обедал?
— Нет.
— Пойдем!
Скромная комната, не менее скромный обед. Едим молча, Алексей Васильевич поглядывает на меня.
— Ешь аккуратно. Из крестьянской семьи, видать?
— Из голытьбы, Алексей Васильевич.
— Все мы не из княжеского рода.
Прощаемся, Мокроусов задерживает руку:
— На трудное дело идем, учти!
В те дни для нас, крымских партизан, не было человека авторитетнее Алексея Васильевича, мы верили ему, мы подчинялись каждому его приказу. Может быть, мы тогда были слишком наивными, но за нашей непосредственностью стояло очень многое, и самое главное — любовь к своей земле, к Родине. Возможно, будь мы покритичнее, избежали бы некоторых досадных промахов, но, честное слово, мы выиграли большее. А это большее становилось великим: не рассуждать, когда речь идет о жизни и смерти, а воевать за жизнь!
Легендарное имя Мокроусова — матроса-революционера, штурмовавшего Петроградский телеграф в Октябре, знаменитого комдива, громившего Петлюру, командарма повстанцев в тылу барона Врангеля, главного военного советника республиканцев Испании под Гвадалахарой — было нашим знаменем от начала до конца.
Я спешу к Бортникову.
Наш юркий пикапчик подпрыгивает на разбитой севастопольской дороге. Ведет его Петр Семенов, нос которого за последние дни особенно заострился: на днях он расстался с семьей и переживает.
Вправо тянутся крутые и голые горы, мы жмемся к ним, повторяя их изгибы. Проскакиваем знаменитый подъем «Шайтан-мердвен», что в переводе на русский язык — «Чертова лестница». По ней, говорят, когда-то поднимался Пушкин. Круто! [137]
Дорога — пронеси господи! Будто гигантскую веревку небрежно бросили на горные склоны, и легла она как попало, без всякого смысла.
Впереди — Байдарские ворота.
Стоп!
К нам подходит пограничник с худыми щеками. Узнаю: младший лейтенант Терлецкий — начальник Форосской заставы.
— Документы!
— Комбат-тридцать три! Знаешь же! — говорю с раздражением.
Два пограничника берут нас на прицел.
— Прошу документы!
Терлецкий внимательно просматривает мое удостоверение личности.
— Проезд разрешаю!
Спускаемся в Байдарскую долину.
— Строгий какой! — бурчит Семенов.
— С характером дядько!
— Порядок — хорошо!
Я соглашаюсь и вспоминаю прошлую встречу с Терлецким. Это было в преддверии винодельческого сезона. Метался я из одного конца Крыма в другой: то искал запасные части к прессам, то электромоторы, то еще что-нибудь. Такова уж доля совхозного механика.
В знойный полдень я с шофером попал в санаторий «Форос». Уставшие, разморенные жарой, мы бросились к спасительному морю, в спешке не заметили на берегу предупреждающую надпись «Запретная зона», стали купаться. Сейчас же появился погранпатруль, приказал выплыть на берег. Мы почему-то заупорствовали. Кончилось тем, что нас вынудили одеться и повели на заставу.
Мы оказались перед младшим лейтенантом — высоким, поджарым, с жестким ртом, холодноватыми серыми глазами.
— Документы!
Их у нас не было, если не считать за документ шоферскую путевку. «Этот не отпустит», — подумал я и решил извиниться.
Куда там — бровью не повел. Пришлось подробно объяснять, кто мы такие и прочее.
— Кого вы знаете в совхозе «Гурзуф»?
Я ответил, что знаю всех наперечет, даже тех, кто работает в других совхозах Южнобережья.
— Сержант! Запиши фамилии и адреса этих граждан и отпусти.
Я заплатил солидный штраф за нарушение пограничных правил. Негодовал: службист проклятый, попадись такому в руки — труба! [138]
А сейчас мне по душе такой «службист». Уж тут никто не проскочит — будьте уверены.
Мои воспоминания оборвал оглушительный взрыв страшенной силы. Упругий воздух горячо ударил по лицу. Семенов резко притормозил, мы выскочили из машины, огляделись, но испуг наш был напрасным: нам ничто не угрожало.
Еще взрыв, еще! Будто гром небесный с нахлестом бился о крутые бока скал, издавая треск, лязг, похожий на падение стальных листов на булыжную мостовую. Звуки стегали по нервам. Это отвечали немцам сверхдальние морские батареи, сотрясая горы до самого основания.
Черные колпаки медленно поднимались над высотами за Бахчисараем и тут же оседали.
Неужели фашисты уже там?
Все ближе к Севастополю, в кабину врывается пороховой угар — его несет с моря западный ветер.
На дороге нервный ритм, и повсюду строгий порядок, который, как я узнал значительно позже, присущ всем дорогам, приближающимся к линии огня.
Атлаус, где должен ждать меня Бортников, в стороне, на проселке. Под скатами шуршат палые листья. Нас неожиданным окриком останавливают и ведут к командиру Пятого партизанского района Красникову.
Я знаю его. Владимир Васильевич директорствовал в совхозе имени Софьи Перовской. Чем-то похожий на интеллигентного сельского учителя, носил пенсне в золотой оправе, аккуратный строгий костюм, белые рубашки, оттенявшие сильную красноватую шею. Был широк в плечах, имел сильный голос.
На собраниях и совещаниях, как правило, занимал почетное место, говорил громко и выразительно, но речь его, в частности для меня — совхозного механика, была все же замысловата.
Меня остановили у крылечка, пошли докладывать начальству. Ждать не заставили.
— Заходите! — голос самого Красникова.
Я с трудом узнаю Владимира Васильевича: он в ладно скроенной шинели, опоясан широким ремнем, через плечо — перекрестком — портупея, на боку кобура цвета густого кофе.
— Мы ждем вас, массандровец! — Красников дружески протягивает руку.
За столом сидит незнакомый пожилой мужчина с чисто партизанской внешностью: сивые усы, дубленый полушубок, папаха, маузер.
Наверное, это и есть Бортников. Я беру стойку «смирно» и докладываю по всем правилам.
— Будет тебе! — Он улыбается в ус, сажает меня рядом с собой. — Думал, ты постарше. Ну ничего, сложим года наши [139] в одну кучу, поделим на две части, и будет что надо! — Бортников говорит с такой доверчивостью, будто знает меня давным-давно. Мне с ним просто.
Сидим за длинным столом в учительской. Красников шумно двигает картой, показывая границы двух партизанских районов. Да, наш район — Четвертый, куда и определяют меня в начштаба. У нас будет шесть отрядов, среди них и Ялтинский.
С нами еще один человек — начальник красниковского штаба. Я почему-то частенько поглядываю на него, но он, Иваненко, — его представили мне — почти не отвечает на мои взгляды.
Входит комиссар района — Георгий Васильевич Василенко. Плотный круглолицый мужчина. Он почему-то сразу напомнил моего первого мастера, который, несмотря на все охранные законы, как-то дал мне парочку подзатыльников, прорычав при этом: «Ух, байстрюки! Понарожали вас...»
Он грузно сел, выставил на стол большие руки со вздутыми венами:
— Чайку бы!
— Может, покрепче, комиссар? — спросил Красников.
— Не время. Еще один ход.
— Без тебя обойдутся, — жалеючи сказал Красников.
Василенко похлебал кипяточку, перевернул стакан — так мой дед поступал, когда кончал чаевать, — зевнул, простился и ушел.
Он с проводниками выводил из окруженных лесов наши подразделения; как позже стало известно, вывел на Севастополь тысячи красноармейцев и командиров.
Идем по узкой сельской улочке, навстречу — партизаны. Молодые, лихие, задористые. Встреча с действительностью впереди, но не за далекими горами.
Красников старается показать район в лучшем виде. Вот он остановил черноглазого, поджарого человека, легкого как танцор.
— Это наш Ибраимов — севастопольский хозяйственник, а сейчас главный снабженец района!
Ибраимов улыбается — блестят белые зубы.
— Отлично знает местность, — продолжает Красников. — Вчера проверял тайные базы. Ищу, ищу — нет, и все! Оказывается — стоял на крыше главной партизанской кладовой. Здорово прячешь, черт! — Красников уважительно подтолкнул Ибраимова.
Тот скромно уточняет:
— Каждый куст знаю, босоногий мальчишка за чертова ягода ходил.
— За кизилом, что ли?
— Конечно, кызыл! О, аллах шайтана надувать умел. Кызыл цветет на морозе, шайтан подумал: рано ягода будет! [140]
Просит аллаха: «Отдай мне!» — «Бери!» — аллах хитро улыбается. Март — цветет кызыл, апрел — цветет, май — цветет! Лето кончилось — ягода зеленый. Тогдай шайтан обиделся и все солнце зимнее на октябрь загнал. Кызыл на урожай — зима на мороз!
А кизила действительно много, особенно по низинам. Бортников соглашается со снабженцем:
— По всем приметам, зима лютой будет!
Я прощаюсь; Бортников обещает ждать меня в лесном домике «Чучель», что лежит на Романовской дороге из Ялты в Алушту через Красный Камень.
В полночь подъезжаем к Алупке. Кругом гробовая тишина, батальон спит. Звоню начальству.
Следующая встреча с Севастопольским районом, точнее — со связными, произошла в более сложных обстоятельствах. Разрыв между встречами был небольшим, но очень драматичным.
Я уже в первой тетради писал о трагической гибели теплохода «Армения».
Она ошеломила не только меня, уполномоченного Мокроусова, Захара Амелинова, моряка Смирнова, но еще одного человека, о котором я ничего до сих пор не говорил, а говорить надо, ибо с ним связано то, что я не смогу забыть до последнего своего дыхания. Назовем его не слишком оригинально, но довольно точно — Очкарем. Посмотришь на его лицо, стараешься что-то запомнить, а вот запоминаются одни лишь очки с выпуклыми толстыми линзами.
Когда самолеты топили «Армению», он отвернулся от моря.
А мы смотрели, надо было смотреть.
Исчезла «Армения», как будто никогда не существовала.
Мы не могли двигаться, нас словно околдовали на том месте, где сейчас частенько останавливаются туристы.
Амелинов пытался свернуть цигарку, но ветер выдувал махорку, и он этого не замечал.
Нас вывел из оцепенения все тот же непоседа Володя Смирнов.
— Топать надо, братцы! Ну, я иду в разведку! — Он твердо шагнул, и мы вынуждены были следовать за ним.
Минут через десять моряк из-за куста вытянул шею и поднял ладонь:
— Ша! Кто-то шкандыбает к нам!
Показался военный в непомерно длинной новой шинели, но без знаков различия на петлицах.
— Стой! — гаркнул прямо под его носом моряк.
Военный до невозможности напугался. [141]
— Кто такой, отвечай! — нервно спросил Захар Амелинов, Все это происходило очень быстро.
— Вот иду... Своих ищу...
— Кто свои?
— Наши, конечно... Ну, советские...
И вдруг случилось невероятное: Очкарь сбросил с себя плащ-палатку — оказался старшим лейтенантом, — грозно подскочил к задержанному:
— Я тебе дам «ну»! Дезертир, мать-перемать... Где фашистская листовка?
Военный без знаков различия стал белее полотна и ничего не мог сказать.
Очкарь нервно стал обшаривать его карманы, захлебываясь, кричал:
— Из-под Перекопа удрал? Отцы грудью, а ты марш-драп! Сука фашистская!
— Все отступали... И я... Я только курсы закончил...
— Признался, гад! Дезертир!
Мы были ошеломлены, все происходило с катастрофической быстротой. Я не успел опомниться, как раздался выстрел.
— За все и за всех получай! — Очкарь, как эпилептик, дергался, человек лежал у его ног мертвым.
Амелинов накинулся на него:
— Ты что натворил?
— Дезертира уничтожил. Я нюхом их чую!
Моряк успел обыскать убитого и в обшлаге рукава нашел перехваченный суровой ниткой пакетик. В нем были: удостоверение личности на имя младшего лейтенанта, медаль «За отвагу», комсомольский билет.
Смирнов поднял автомат.
— Ты кого убил, сволочь?
— Стой! — Амелинов стал между ними. — Самосуда не будет, разберемся. А ты, — он резко повернулся к Очкарю, — отдай оружие!
...Очкаря, к великому несчастью, не судили, защитил его, как ни странно, Амелинов. «Он был невменяем», — рапортовал он. Напрасно защитил. Позже, приблизительно через месяц, Очкаря послали с группой партизан на очень важное разведывательное задание. Он попал к немцам и выдал всех своих спутников.
Черного кобеля не отмоешь добела, как ни старайся.
Ни Бортникова, ни связных от него в лесном домике «Чучель» не было.
Рассказывают: на командира Четвертого района напали каратели и загнали его куда-то в район трехречья Кача — Донга — [142] Писара. Я собрался на поиски, но меня не пустили, сказали: жди связных!
Домик стоял на перекрестке многих дорог и троп, связывал Центральный штаб с районами, подпольными группами оккупированных городов. Отсюда партизанские ходоки уносили приказы Мокроусова, доставляя сюда вести о боях, победах, поражениях.
На первый взгляд тут все мне казалось случайным, недодуманным: для чего, например, скапливать столько народу на этом крохотном «пятачке», лежащем всего в километре от довольно-таки важной Романовской дороги, по которой час назад прошла мотоколонна фашистов в сторону Южного берега Крыма?
Шум, гвалт, колгота, — не поймешь, кто здесь командует, кто подчиняется.
Амелинов вдруг куда-то исчез, моряк Смирнов нашел какого-то дружка, а я и Семенов сиротливо прижались к сырой стене — другого места не найдешь, все перезанято — и чего-то ждем.
Люди! Какие они тут разные! Сдвинуты набекрень шапки с красными лентами поперек, взгляды — знай наших! Военные, матросня, бывшие бойцы истребительных батальонов. Они все чему-то радуются, говорят в полный голос. Как же так: они же знают о гибели «Армении» — мы рассказали, а ведут себя, словно немцев из Крыма выгнали. Откуда такой оптимизм, уместен ли он? А может быть, я чего-то еще недопонимаю? На войне человеческие чувства — жалость, боль, ненависть, презрение, страх — проявляются как-то особенно, а как — я еще не знаю...
По соседству дотошный морячок пристает к пожилому степенному красноармейцу, прижимающему к себе новенький автомат-пистолет, явно трофейный.
— Папаша, махнем! Даю ТТ, пять лимонок, зажигалку и флягу!
— Не приставай!
— Жалко, да? Ведь стянул небось...
«Папаша» обкладывает моряка таким сочным матом, что тот от восхищения бросает вверх бескозырку.
Вокруг смеются.
Толстощекий артиллерист который раз обращается ко мне:
— Скажи толком: дадут мне шинель аль пропадать?
Я пожимаю плечами.
— Пойми, старшина не успел дать мне шинель. Значит, я не получал.
— Тут лес, цейхгаузов нет!
— Чевой, чевой?
— Вещевых складов нет, говорю!
— Но порядок должон быть? [143]
Я увидел Амелинова, бросился к нему:
— Как же быть?
— Ждать.
И все же в этой сумятице была и своя гармония.
Вот вошел в переполненную комнатушку высокий сероглазый человек в годах, степенный, какой-то самостоятельный. На лице глубокие морщины, а кажется моложавым. У него крепкие зубы, точные движения. Снял плащ, посмотрел поверх голов:
— Товарищ Амелинов!
Захар обрадовался:
— Дядя Дима! С новостями?
— Морячка привел. Эй, дружок! — Он повернулся лицом к входным дверям.
Оттуда вкатился плотноплечий круглолобый парень в бушлате, перекрещенном пулеметными лентами.
— Мое вам, братцы! — по-смешному запищал бабьим голосом.
Грянул смех, но Амелинов шикнул:
— Ну! — Голос у него отлично поставленный, он сразу подавил смех. — Прошу ко мне! — Отыскал глазами меня: — И ты давай сюда!
Крохотная комнатушка, кровать, на ней гора подушек в красных наволочках. Амелинов присел на столик, приткнувшийся к окошечку, а мы прижались к стене.
— Ну, Дмитрий Дмитриевич, чем я обрадую нашего командующего?
Дядя Дима — Дмитрий Дмитриевич Кособродов — из-за пазухи достал пакетик.
— Лично от Павла Васильевича Макарова!
— Чем же нас удивит знаменитый адъютант генерала Май-Маевского?
Май-Маевского! Перед войной я прочитал книгу Макарова и буквально бредил тем, что узнал из нее. Большевик Макаров в роли белого капитана сумел стать правой рукой генерала Май-Маевского. Романтическая личность автора запомнилась на всю жизнь. Неужели сейчас он в лесу, в одном строю с нами? Меня взяло нетерпение, и я спросил у Амелинова:
— Макаров — тот самый?
Он кивнул головой, продолжая знакомиться с содержимым рапорта.
— Старая гвардия! Молодец, Паша! — он посмотрел на моряка. — Так ты из группы Вихмана?
— Одесса! Осиповцы, в атаку, лупи мамалыжников! — Моряк рисовался, а потом, убедившись, что произвел впечатление, начал довольно толково рассказывать о путях-дорогах, приведших небольшую группу морских пехотинцев во главе с лейтенантом Вихманом в партизанский лес. Они лихо защищали [144] Одессу, сдерживали фашистов под Перекопом, у совхоза «Курцы» — вблизи Симферополя — смяли немецкий авангард. И самим досталось по первое число, пришлось рассыпаться на мелкие подразделения и самостоятельно решать судьбу свою. Леонид Вихман разыскал Симферопольский отряд, которым и командовал легендарный Макаров. Павел Васильевич не жаловал «окруженцев», но Вихман оказался сверх меры настырным.
— Одессу держал? — Макаров любил краткость.
— Осиповский, — не менее кратко ответил Вихман.
Морской полк Осипова! О нем ходили легенды. «Черная туча» — называли его враги.
— Докажешь?
— Прикажи!
— Дуй на Курлюк-Су! Утром жду с пропиской. Пустой придешь — топай на все четыре! Ты меня понял?
Десять матросов в засаде. Дождь. Бушлаты промокли — хоть выжимай, в желудках — турецкий марш. Но матросы под командованием двадцатилетнего еврейского паренька с лицом музыканта зарабатывают партизанскую визу.
Ждут долго. Наконец увидели то, что нужно. Ревут дизеля немецких тяжелых «бенцев», грязь из-под колес до макушек сосен.
— Шугнем! — Вихман легко перебежал от дерева к дереву и под колеса первой машины бросил противотанковую гранату.
Жуть что было! Нет машин — взорваны, нет солдат — убиты. Есть трофеи — автоматы, пистолеты, документы, ром, шоколад, а главное — надежная прописка в макаровский отряд!
«Севастопольская работа!» — высшая оценка Макарова. Севастополь — его молодость, школа подполья, классовой борьбы; в Севастополе — могила родного брата, замученного беляками.
Амелинов вручает пакет Кособродову:
— Сам понесешь хозяину! Он кличет тебя!
Кособродов уходит в штаб командующего. Я сквозь тонкое оконное стекло вижу, как легко он шагает.
— Сколько же ему? — спрашиваю у Амелинова.
— Полвека будет.
Полвека! Для меня тогда этот возраст казался недосягаемым. Но вот прошло еще четверть века, а Дмитрий Дмитриевич Кособродов жив и по-прежнему молод. Да, да, молод. Он не так давно женился, и молодая жена родила ему трех дочерей — точь-в-точь портрет отца. А семьдесят пять лет для него не возраст. Он каждое лето водит практикантов-геологов в самые отдаленные уголки гор, и за ним трудно угнаться.
Кособродовы — саблынские крестьяне. Кто только не наживался на их горбу! Помещики-баи, надсмотрщики казенного лесничества. В работе В. И. Ленина «Развитие капитализма в [145] России» отражена тяжкая судьба саблынцев, в числе которых упомянуты и Кособродовы. Их род не на жизнь, а на смерть боролся со своими угнетателями и в неравной битве потерял двадцать пять человек.
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| НАЧШТАБА 2 страница | | | НАЧШТАБА 4 страница |
Дата добавления: 2015-06-30; просмотров: 265; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!