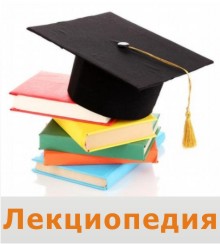
Главная страница Случайная лекция

Мы поможем в написании ваших работ!
Порталы:
БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика

Мы поможем в написании ваших работ!
НАЧШТАБА 4 страница
Еще через час в лесном домике стало особенно шумно: прибыли связные из Пятого района, лично от самого Красникова. Всех это волнует. Еще бы! Севастопольские партизаны дерутся у самого фронта. Что там, как держатся наши?
Подвижный, среднего роста, с черными усиками человек, снимая плащ-палатку, с явным кавказским акцентом громко спрашивает:
— Где главный начальник?
Голос показался мне знакомым: постой, да это же Азарян! Он самый! Винодел, наш, массандровец, шумный, громко-гласный.
Увидев меня, раскинул руки, обнял:
— Ба! Начальник мази-грязи! Какими судьбами?.. Я тебе такое сейчас скажу...
Моряк Смирнов на этот раз оказался нетерпеливым, его беспокоил Севастополь.
— Успеешь указать, а пока отвечай: как дела на фронте?
— Морской порядок! Молотим фрица с двух концов! — Азарян выговаривался долго, но за его восторгом, восклицаниями все же вырастала довольно-таки точная обстановка, которая складывалась на Севастопольском участке фронта.
Первое — и главное — фашисты остановлены! Линия фронта уплотняется, и, видать по всему, там начинается упорная позиционная война.
Тут же мысль: а какое положение у севастопольских и балаклавских партизан? Ведь они оказались во втором эшелоне фронта, почти на артиллерийских позициях врага. Азарян рисует картину: отряд затаился на отдыхе после трудного маневра в лесочке, а через речку, в километре от него, — гаубичная батарея немцев. Или такую: на горке пиликают фашистские губные гармошки, выводя душещипательную песенку, а внизу, у подножия, севастопольские партизаны жуют сухари, запивая водой, которую взяли из того источника, откуда минут пять назад брал немецкий ефрейтор: пришлось обождать, пока наполнит все фляги.
И что удивительно: ни Красников, ни его комиссар Василенко пока не собираются покидать второй эшелон фронта.
Они бьют фашистов! Рапорт Красникова документально это подтверждает.
Вот немцы только замаскировали мотоколонну. Все как будто шито-крыто, но на рассвете точный и мощный артиллерийский удар. Солдаты спешат в укрытия, но на них обрушивается партизанский огонь. [146]
В табачном сарае под Дуванкоем отдыхает батальон немецкой пехоты. Он вышел из боя, принял пополнение и готовится атаковать высоту Лысую.
За час до атаки налетают русские самолеты, а после них около сорока автоматчиков-партизан с гор палят по пехотинцам перекрестным огнем.
Весь второй эшелон вздыбливается.
В чем дело? Кто взорвал мост под Балаклавой? Чьи руки разметали телефонный кабель, проложенный от штаба дивизии к командному пункту самого Манштейна? Кто постоянно проводит через линию фронта русских военнослужащих, оставшихся в окружении?
Ни командующий Манштейн, ни его штаб не могли понять, что же делается в тылу их войск.
Но где Бортников? Почему не шлет связных?
Утро, большими хлопьями валит снег — первый снег этой зимы.
Но снег пока еще робкий, лучи солнца слизывают его моментально. Грязь, сырость. Я, в роли начальника караула, пытаюсь установить кое-какой порядок.
В избушке по-прежнему тесно. Прячась от непогоды, каждый старается обеспечить себя теплым местечком. Нашел записку: «Товарищи! Иду на связь с Алуштинским отрядом, вечером вернусь. Место за мной!»
Усмехнулся: ничего себе прогулка! В оба конца более двадцати километров, да и с противником можно встретиться на каждом шагу. Но товарищ крепко верит, что придет. Такие приходят, и их много. И не столь важно, что шапки они носят набекрень, любят баланду потравить.
Военнослужащие! Многие из них просят об одном: помогите добраться до Севастополя! Помогаем. Есть такие, что хотят остаться в лесу. Тут мы идем навстречу скуповато, тщательно взвешиваем «за» и «против». Морячков, пограничников берем охотнее, чем других. Это, как правило, народ кадровый, живой, отлично знающий, что такое война.
Попадается люд разный; бывают и такие: перед Амелиновым стоит военный в грязной шинели, за плечами у него туго набитый вещевой мешок. Его задержала секретная партизанская застава.
Амелинов молча, оценивающим взглядом осматривает задержанного; тот спокойно, даже слишком спокойно выдерживает этот взгляд.
— Звание?
— Лейтенант.
— Каких мест житель?
— Бахчисарайский, товарищ командир.
— Отходишь из-под Перекопа?
Лейтенант виновато разводит руками: мол, приходится. [147]
— Почему один?
— Знаете, в такой обстановке кто куда...
Ответ настораживает.
— А ты?
Быстро:
— Разве присягу не принимал!
— Но идешь домой! — Амелинов с напором.
Военный молчит, но потом спохватывается:
— Разве можно, товарищ начальник! В такое время, когда надо Севастополь защищать...
— Защищать, говоришь? — Амелинов пристально смотрит на вещевой мешок. Задержанный в каком-то тревожном ожидании, и это не проходит мимо нас.
— Снимай! Живо!
Военный стоит неподвижно. Лицо его белеет.
Смирнов с силой дергает мешок — трещат лямки.
— Что у тебя здесь напихано? Может, полковое знамя спасаешь? Или несешь медикаменты для матросиков?
Смирнов выбрасывает из мешка шелковые платья, отрезы, суконные командирские брюки, пару хромовых сапог.
— Шкура! — кричит моряк. Из недр награбленного барахла он вытаскивает фашистскую листовку. «Бей комиссаров! Штык в землю!» — Сука! — Смирнов ударом кулака сваливает почерневшего от страха мародера.
Моя «чучельская» неделя! Прожил я ровно семь дней, не сделал ни единого выстрела, не видал в глаза врага, но все же она партизанская, эта неделя!
Каждый узнанный факт, каждая встреча ложились на обработанную почву и потом дали свои всходы. «Севастопольская работа» Вихмана открывала путь к молниеносному действию, к дерзости, красниковская смелость под Севастополем намекала на командирскую мудрость. Короче, «чучельский» домик — первая ступень моей партизанской биографии, она со мной и сейчас.
Наконец-то Бортников заявил о себе: он на водоразделе Донги и Писары, вот-вот будут от него связные. Но у меня такое состояние, что и часа ждать не могу. Меня понимают и не задерживают.
Погода никудышная: ливень сменяется сильным снегопадом, потом начинается изморось. Мои почти развалившиеся сапоги громко чавкают и не защищают от слякоти. Снег тает, едва коснувшись земли, и мы сразу замечаем: следы гусениц настолько свежие, что дождь не успел размыть их.
Пройдя несколько шагов, вдруг натыкаемся на тлеющий костер, не потушенный даже таким сильным дождем. Рядом с костром открытые консервные банки с остатком зеленого горошка, пустые бутылки и обрывки немецких газет. [148]
Наверное, не прошло и двадцати минут, а может, и того меньше, как здесь грелся противник.
Насторожились, поближе подтянули гранаты.
Подошли к мосту, взорванному нашими отступающими саперами. Не имея, по-видимому, времени восстановить его, немцы не пожалели танка, вогнали машину в проем моста и проложили по ней настил из дров.
Послышался подозрительный шум. Мы осторожно вскарабкались на высотку, прикрытую кустарниками. За гребнем, на небольшой поляне Алабач, расположились два средних танка, рядом — до отделения солдат. На дороге стоит бензозаправщик. Орудия танков смотрят на лес.
Это первые живые враги на моем пути. Что же делать? Уйти? Ведь, строго говоря, мое задание — добраться до штаба района.
И все-таки я с каким-то непонятным и мне самому автоматизмом вдавливал сошки ручного пулемета в сырую землю.
— Приготовиться! — вырвалась команда.
Уловив удобный момент, я дал длинную очередь по заправщику, мои товарищи — нас было пятеро — ударили по солдатам, стоявшим у танков.
Несколько немцев упали сразу, но другим удалось вскочить в танки, и они наугад бабахнули из пушек и пулеметов.
Неожиданно кто-то из наших толкнул меня в плечо:
— Сзади две машины фашистов! Рассыпаются, идут сюда!
— К речке! — скомандовал я.
Мы бежали не чуя ног, спуск был ужасно крут, скатывались кубарем. Разрывные пули рвались вокруг, создавая впечатление, что немцы буквально за нашими спинами и стреляют в упор. Я даже ждал: вот-вот пуля секанет меня. С перепугу потерял шерстяное одеяло, единственную мою ценность. Зимой так часто вспоминал о нем.
Фашисты долго стреляли, но спуститься к нам побоялись.
Страх прошел, уступив место нервному возбуждению: мы наперебой делились впечатлениями от своей первой партизанской засады. Тут же пошла неудержимая фантазия!
Вечер окутал нас неожиданно, дальнейший марш не имел смысла. Нашли поляночку под развесистым, древним-предревним дубом, на котором листва только пожухла, и расположились на ночевку. Но заснуть мы так и не смогли. Беспокоило возбуждение, донимал . и дождь, который прорывался к нам сквозь крону твердыми крупными каплями.
Где же искать Бортникова?
Вдруг пришло решение: найти Ялтинский отряд (я знал его точное месторасположение), а потом с помощью Мошкарина отыскать и Бортникова. Шагать будем по азимуту.
Вот когда я впервые узнал, что такое Крымские горы! Мне до этого казалось, что только южная часть полуострова — так [149] километров на шесть, не более, — является районом гор, а дальше, за яйлой, тянется плоскогорье, сходящее в равнину.
Оказывается, за яйлой и начинается дикая часть Крыма. Тут бездонные ущелья, неожиданные провалы, головокружительные скалы, каменные террасы, сосны, искореженные ветрами. Не тропы, а канаты, натянутые между ущельями.
А кручи, кручи! Мне очень трудно, не дышу, а хватаю воздух больными легкими, мне его мало, и я задыхаюсь на каждом шагу.
Семенов — он все время рядом — сухопар, легок, не поймешь: устает он или вообще не знает, что это такое? Он повсюду одинаков — и на головокружительном спуске, и на подъеме чуть ли не под прямым углом. Одно ясно — старается мне помочь, но с тактом, не навязчиво.
Подъем и подъем! Когда же ему конец, проклятому?
Неужели сдам?
Тащусь в полубреду каком-то, боюсь даже вперед посмотреть.
Подъем взят, я валюсь на мокрую листву и пальцем не могу шевельнуть.
Семенов обеспокоенно потянул носом:
— Никак, дымом несет?
Вскакиваю, подбегаю к пулемету.
Мы прячемся за толстыми стволами черных буков — здесь их царство, — оглядываемся.
Окрик со стороны:
— Кто такие?
Поворачиваю на крик ствол пулемета, громко спрашиваю:
— А вы?
— Старшой ко мне! Остальным не двигаться!
Да это же бортниковский голос!
— Иван Максимович!
Мы обнимаемся, потом я отступаю на шаг от командира: да он ли это? Совсем не схож с тем человеком, кого я встречал в учительской атлаусской школы! Во-первых, лет на двадцать постарел: во-вторых — и это меня удивило, — в его глазах стояла такая тоска, что хоть руки опускай.
— Что случилось, Иван Максимович?
Одно лишь громкое название: штаб района! Ни комиссара, ни начальника разведки. Нет комендантского взвода, пункта связи.
Где же комиссар? Я точно знаю: утвержден первый секретарь Ялтинского райкома партии Мустафа Селимов. Мы уговаривались: он самостоятельно доберется до Бортникова. Может, еще придет, ведь и я пришел только вчера! [150]
Но комиссар не пришел ни сегодня, ни вообще. Говорят, заболел; так или не так — не знаю, но мы остались без комиссара района.
Вечер. В центре маленького шалашика — костер. Бортников набросил на себя дубленый полушубок. Молчит.
Я узнал: штабная база выдана врагам, кто готовил ее — тот и выдал; в полном составе покинул лес один из наших отрядов — Фрайдоровский. Сто пятьдесят партизан этого отряда подхватила волна отступления и бросила прямо в Севастополь. Кроме того, нет связи никакой с двумя отрядами: Куйбышевским и Акмечетским. Бортников приблизительно знает их месторасположение, но это мало что значит.
Одним словом, полный ералаш, и это в то время, когда Красников, находясь в тысячу раз сложнейшем положении, чем мы, бьет фашистов под носом крупных немецких штабов.
А я там, на Атлаусе, не совсем серьезно принял Красникова в роли командира партизанского соединения, а Бортниковым с первого взгляда был восхищен.
Как все сложно!
Бортников забрался к черту на кулички и скорбит. Его что-то особенно тяготит, а что? Спросить?
Вдруг сам он у меня спрашивает:
— Что за стрельба вчера была на Алабаче, часом, не знаешь? И пушки били.
— Мы напоролись на два танка и заправщик.
— И что же? — Иван Максимович поднял глаза: они были какие-то детские — серо-голубые и невинные.
— Пощипали малость.
— Кто кого?
— Мы. Подкрались и напали.
Бортников не спускает с меня глаз, а потом удивленно говорит:
— Ишь ты!
Подробностей не спрашивает.
Я начинаю горячо говорить о том, что мы обязаны создать штаб, а перво-наперво связаться с отрядами. Делюсь впечатлениями о «Чучеле», о боях, о которых я узнал в лесном домике. Командир слушает, но не так, как бы мне хотелось. И я умолкаю. Он шурует кизиловой палочкой костер, раздувает застывающие угли — поднимается небольшой столб искр, но тут же гаснет.
Наконец Иван Максимович довольно четко мне предлагает:
— Ты начальник штаба — вот и налаживай службу! — Он вытягивается на дубовых жердях; вместо матраса — пахучее сено.
Утром я нашел его на горке, под сосной. Прислонившись к стволу, к чему-то прислушивался, прикладывая согнутую ладонь то к одному уху, то к другому. [151]
— И ты послушай! — предлагает мне.
Слушаю: шумит вода, где-то далеко татакает одинокий пулемет, а за горами на западе глухо урчит фронт.
Звуки не настораживают, они уже привычные.
Что же хочет услышать Иван Максимович? Он слишком уж обеспокоен, спрошу-ка напрямик:
— Случилось еще что, Иван Максимович?
— Беда случилась, начштаба! Четвертые сутки жду своего помощника по хозчасти, а его нет — как сквозь землю провалился! Понимаешь, боюсь, что к немцам подался.
— Кто он?
— Один из коушанских.
— Верный человек?
— Знаю я его лет двадцать, и вроде был наш. Ведь теперь ничего не поймешь, все пошло кувырком.
— Он знает базы, стоянки отрядов? — Тревога подкрадывается под самый дых.
— Он знает всё!
Подробно расспрашиваю о беженце и, к своему ужасу, узнаю, что он в двадцатых годах помогал то мокроусовцам, то отрядам буржуазных националистов. Колеблющаяся личность — от таких проку не жди!
Предлагаю принять немедленные меры, и на первый случай сегодня, сейчас же убрать штаб. Но Бортников против:
— Зачем мы ему? Базы — другое дело.
— Так давайте базы перепрятывать!
— Голыми руками? В каждой по двадцать тонн продуктов...
Когда валится стена, то валится все, что бывает на ней.
Прибежали связные из Бахчисарайского отряда. Уж по одному их виду было ясно: несут страшную весть. Командир отряда убит, базы разграблены! Предал полицай!
Бортников схватился за сердце и привалился к дереву. Мы унесли его в шалаш, стали отхаживать. Бортников ослабел, но меня не задерживал, и уже через час я шагал по новым для меня тропам.
Бахчисарайский отряд, его люди вошли в меня, как входит в человека что-то крайне ему нужное в самый критический момент. Навалившееся на нас несчастье чуть не раздавило меня. Я шел по крутой тропе на Мулгу, где стояли бахчисарайцы, и мне было безразлично: дойду до цели или нет, обстреляют меня немецкие охранники или нет. Я и сейчас эти минуты жизни не признаю за малодушие, но меня как человека можно понять: слишком уж много бед сразу навалилось.
Бахчисарайский отряд, его командир Михаил Андреевич Македонский, комиссар Василий Ильич Черный, рядовые партизаны как-то сумели убедить меня, что даже в отчаянные минуты человек обязан надеяться. Как будто тупик, впереди бетонная стена, но и ее можно пробить. И надо пробивать! [152]
Об этих днях, о боевом марше бахчисарайцев я расскажу в третьей тетради. Они для меня особая статья, и я хочу им отвести в своей летописи самостоятельное место.
Через неделю я вернулся к Бортникову и знал, что мне надо делать. А пока стал готовить срочный удар по Коушу; цель — захватить предателя, изъять партизанские продукты.
Даже ошибочное действие лучше правильного бездействия — не мною сказано. Наш небольшой штаб пришел в движение. Мы разослали связных по отрядам, потребовали срочного доклада командиров о начале боевых ударов по немецким тылам.
В разгар подготовки к нам ввалились севастопольские связные во главе с неутомимым Азаряном. Он шумно вошел в штабной шалаш:
— Кто меня угостит карским шашлыком?
— А партизанского не хочешь?
Я наколол на штык кусок оленины и сунул в жаркий, но бездымный очаг. Запахом паленого мяса заполнился весь шалаш, у гостя раздулись ноздри.
— От такого шашлыка будешь живой, но худой. Жарь, механик, рюмка спирта за мной!
Азарян балагурит, видать, по привычке, но вид у него совсем не тот, что раньше: под глазами круги-отметины, усики не так тщательно подстрижены, и загривок свалян, — видать, давно не мыт. Насколько я знаю, аккуратность винодел любил, даже почитал.
— Трудно у вас?
— А у тебя рай, да? Слушай, механик. Человек имеет в кармане партийный билет, да? Почетный человек, ему, подлецу, верят, сажают за стол рядом с товарищем Красниковым, а? И что делает он, скажи?.. И ты...
— Стой! — резко обрываю я Азаряна. Знаю, что скажет. Спазмы сдавливают дыханье.
Ибраимов! Тот знаток леса, что нам про «кызыл» байку рассказывал. Удрал!
Нельзя дальше следовать за событиями, надо действовать, действовать. И вот первый шаг: изъять из Коуша предателя, собрать награбленные продукты. Я срочно выхожу в Акшеихский отряд.
Этим отрядом командует Федосий Степанович Харченко. Седая борода, черные с хитроватым огоньком глаза. Был, по-видимому, красивым чернявым парубком, следы этой красоты заметны и сейчас, несмотря на полвека жизни. Одет в теплый черный полушубок и в серую каракулевую папаху с заломленным верхом. Поверх сапог — постолы из сыромятной кожи. Улыбается скупо, говорит мало. [153]
Принял меня Харченко суховато.
Спрашиваю:
— Как по-вашему, Федосий Степанович, выйдет из этого что-нибудь?
— А богато народу будэ?
— Человек пятьсот. Пойдем глухим лесом.
— Чого ж, може и выйти.
Я предлагаю командиру послать тайных наблюдателей за Коушем.
— Сичас. — Старик вызывает четырех партизан, обращается к пожилому: — Слухай, Павло, ты скилькы раз був у Коуши?
— Та разив пъять, батько.
— Иды туды, узнай, што там рóбят нимцы, скилькы их тамочки, та швыдче.
— Колы до дому?
Федосий Степанович смотрит на часы, долго что-то соображает, потом смотрит на меня, как бы желая увериться в моем согласии, и наконец говорит:
— Да так годын через пъять, мабудь, хватэ.
Осмотрев каждого, тому указав на слабую подгонку постолов, другому на болтающийся вещевой мешок — командир глазастый! — он отпускает их.
— Надо было уточнить задание, — замечаю я.
— На що? Хиба воны диты?
Харченко замолчал. Я вынул лист бумаги и карту: надо кое-что уточнить в плане операции. Хотелось есть, но хозяин не приглашал, да как будто и сам не собирался.
Я напомнил ему.
— А вы исты хочэтэ? Слухай, Дунько, прынэсы гостю пэрекусыть.
Пожилая женщина положила передо мной две очень тонкие лепешки и луковицу.
Акшеихцы показались мне тяжелодумами. Все здесь делается медленно, буднично. Народ не суетится, не бегает между землянками, а ходит вразвалку. На всем сказывается
характер самого командира, старого партизана со Скадовщины, воевавшего еще под Каховкой.
И на акшеихцев предатели приводили фашистов, но Федосий Степанович вовремя разнюхал их планы, за две ночи перепрятал продукты, увел отряд из Кермена, зацепился за выступ горы Басман да и затих там. Найти это место трудно, можно пройти в ста шагах от него, и в голову не придет, что там могут находиться партизаны.
Первым по вызову явился Бахчисарайский отряд. Я на правах старого знакомого, при молчаливом несогласии Федосия Степановича, которому восторженные слова что горчичник на язык, шумно приветствую отряд. [154]
Македонский плечист, в его походке есть что-то медвежье, шея короткая, на ней удобно посажена крупная голова с острыми глазами, бровастая и чуть лысоватая. Что-то притягательное есть во всем его облике.
Бахчисарайцы основательно приготовились к длительной лесной жизни. У партизан теплые ушанки, полушубки, на ногах почти у всех постолы, в том числе и у комиссара Василия Черного. Обувались они таким образом: сперва на босу ногу шерстяной носок, затем байковая портянка, за ней обмотка из плащ-палатки, и все это плотно зашнуровано, так что ни вода, ни снег не страшны. В лесу такая обувь оказалась самой практичной.
Бахчисарайцы дружно устраиваются в лагере акшеихцев, гремят котелками, говорят громко, чем окончательно сердят Федосия Степановича. Но он соблюдает правила гостеприимства.
Организованно появился Красноармейский отряд, и наш хозяин малость смягчился.
Народ в нем боевой, побывавший уже не в одном сражении. Отряд сформирован штабом Мокроусова и подчинен нашему району. И мы довольны: есть на кого положиться.
Их двести, партизан. Одеты скудновато. Армейская обувь, повидавшая сивашские переправы, крымскую гальку, непролазную степную грязь, давно требовала замены. Многие не успели получить в армии зимнее обмундирование, даже шинелями не все были обеспечены. Мелькали выгоревшие пилотки, но красноармейская звездочка у всех на месте. Вырезана в большинстве случаев из жести, но аккуратно. Оружие содержится в хорошем состоянии, главным образом это наши советские автоматы.
Командует отрядом старший политрук Абля Аэдинов. Он крымчанин, партийный работник, человек аккуратный, осторожный. Комиссар отряда — журналист Иван Сухиненко. Он под стать командиру, дело свое знает и тихо упорен, как та речка, что незаметно несет миллионы тонн воды, хотя на первый взгляд кажется недвижной.
И командир и комиссар большую надежду возлагают на операцию. Их понять легко: отряд разут, раздет, не имеет никаких продуктовых баз.
Лишь поздней ночью легли мы на короткий отдых. Воздух в теплой землянке был тяжелый, спертый, и кто-то неистово, на все лады храпел. Ночную тишину прорезали автоматные очереди гитлеровцев, перекликающихся в Качинской долине, куда и лежит наш путь. Слышны отдельные артиллерийские выстрелы под Севастополем. Сквозь неплотно закрытую дверь заглядывало в землянку звездное и морозное небо. Снег поскрипывал под ногами часового, — вероятно, мороз крепчал. Весь лагерь спал перед предстоящей операцией. [155]
Я с тревогой думал: а каков будет результат? Это первая моя операция, опыт у меня почти нулевой. Два танка обстрелял — и все! Но тогда просто повезло. На этот раз все
гораздо сложнее. Последние разведданные говорят: в Коуше до ста немцев, рота полицаев, комендантская группа. За нами только одно — внезапность. А может, и ее нет?
...Длинная цепь партизан вытянулась вдоль извилистой речушки Кача. Нас казалось очень много, и мы выглядим грозно.
Физически мы крепки, воздух в лесу волшебный, харч пока есть. Свободно подминаем под себя крутую тропу и спускаемся в долину.
Уже чувствуется близость большого населенного пункта. Пахнет дымом, лают собаки, доносится к нам и неожиданный гул заведенного мотора, даже голоса слышны. Они, на мой слух, встревоженные.
Скорее!
В километре от Коуша разведчики напоролись на немецкий патруль. Он сделал несколько беспорядочных выстрелов и скрылся.
Аукнулось суматошной возней в селе, шумом машин, торопливыми командами.
Вот тебе и внезапность!
— Бегом в Коуш! — кричу я, вытаскиваю из кобуры пистолет и срываюсь с места.
По садам, огородам, через черные линии плетней, затянутые льдом арыки бежим в село, охватывая его с двух сторон. Почему-то машины удаляются в сторону Бахчисарая...
Даю сигнальную ракету: встреча в центре! С трех сторон мне отвечают зелеными ракетами: поняли!
Вбегаем на школьную площадь, сталкиваемся с комиссаром бахчисарайцев Черным.
— Драпанули, сволочи! — ругается он.
Спешим к главной цели: в дом бывшего предателя, дезертировавшего из штаба района. Теперь нам точно известна его роль: это он водил карателей по партизанским базам.
В узком переулке, освещенном луной, стоял двухэтажный дом местной постройки с окнами и крыльцом, выходящими во двор.
Обыск ничего не дал. Стали допрашивать живущих в доме. Ответ один: «Не знаю, товарищ начальник!»
Мы решили перевернуть все вверх дном, но своего добиться. Что-то нам нашептывало: ищите.
— Сюда, сюда! — крик из узкой комнаты.
В детской кроватке, согнувшись в три погибели, лежал мужчина, из-за спины его выглядывал немецкий автомат.
— Вылазь! — Черный подошел ближе.
Предатель с трудом выволок свое грузное тело. [156]
— Ну, здравствуй, — сказал Черный. — Вот и встретились. Отвоевал? Где немцы, где полицаи?
— Бежали, товарищ... ээ...
— Куда? Разве они знали о нас?
— На Улу-Сала бежали, говорили: десять отрядов идет, сам Мокроусов идет!!
— А ты?
— Не успевал.
Он на все вопросы отвечал охотно. Может, этим хотел смягчить свою вину? Он рассказывал, где лежит мука, рис, фуфайки, бочки, залитые бараньим жиром. Говорил
правду. Из двухэтажного домика пулей вылетали партизаны Красноармейского отряда, на ходу одевались, нагружали подводы продуктами, выгоняли овец на дорогу.
А суд наш продолжался. Мы вынесли приговор: смертная казнь!
Изменника вывели из комнаты. Собрав партизан, предателю объявили приговор и очередью из автомата прикончили посреди его собственного двора.
Два пожара в разных концах Коуша осветили и без того освещенное луной село.
Прибежали связные.
— Гудят машины, товарищ начштаба, по всей долине тревога!
— Отходить на базы!
Шли мы по накатанной дороге, не оставляя следов.
Стою как-то на вершине зубчатого пика Басман-горы, смотрю на запад, прислушиваюсь к голосу фронта.
Через равные промежутки времени ухают сверхмощные взрывы, потрясая воздух над всей крымской грядой. Фашисты стянули под Севастополь сверхдальнобойные пушки и дубасят город с немецкой пунктуальностью.
Но и севастопольские пушкари, особенно морские, в долгу не остаются. Они отвечают лихо и даже достают до окраины Бахчисарая, наводя панику на немецкие штабные тылы.
Жив Севастополь!
Час-другой назад у нас снова побывали связные от Красникова. На этот раз Азаряна среди них не было: винодел, пять раз пересекший яйлу, устал.
Мы угостили их лепешками из муки с примесью крахмала — делали его из гнилого картофеля, добытого на заброшенном поле. В самодельном продукте немало было песка, похрустывающего на зубах. Наш новый комиссар — а им стал Захар Амелинов, тот самый, с кем я видел гибель «Армении», — назвал [157] лепешки эти чудным словцом: лапандрусики. Не знаю, откуда он выкопал его, оно нам очень понравилось, это словцо, — лапандрусик.
Порой я бываю в крымских музеях, смотрю на партизанские экспонаты и очень жалею, что среди них нет нашего лапандрусика.
Старший связной, угловатый, немногословный, справился с угощением, поблагодарил и уснул.
Спал он ровно два часа и стал собираться в дорогу. В нем не было азарянского азарта, веселости, но чувствовался характер, бросалась в глаза весомость каждого сказанного им слова.
Сам, значит, машинист паровоза, фамилия Томенко, зовут Михаилом.
Вдруг вспомнилась областная комсомольская конференция. Ведь я именно там видел большой портрет этого человека: «Лучший машинист Сталинской железной дороги!»
Уточнил. Да, был, кажется, портрет, сам он не видел его, но слышал о нем.
Томенко и его товарищи — коренные севастопольцы, работали в депо, водили военные эшелоны, рыли окопы, а потом гамузом пошли партизанить. Восемьдесят два человека. Железнодорожная группа. Командует Федор Верзулов. Слыхали? Ну как же! Машинист, известный на всей дороге, наш учитель. Крепкий мужик.
Томенко говорил, а руки проворно снимали сапоги, перематывали портянки. Мужик, видать, сноровистый.
Бортников хотел подробностей и не оставлял связного в покое:
— Да ты рассказывай, как воюете вы там?
— Туго. — Томенко встряхнул вещевой мешок.
— Каратели жмут, что ли?
— И они жмут. И мы им жару поддаем. — Мешок за плечи.
— Ну и молодцы!
— Все одно туго. Фашист что-то надумал.
— А вы по-партизански: пришел, увидел, бабахнул — и айда прочь!
— Нельзя. Под Севастополем для фашиста место нервное.
С тем Томенко и простился. Мне он понравился. «Место нервное» — точно сказано.
Бортников поглаживал усы, отрицательно покачал головой:
— Отчаянный этот Красников. Я отряды там не держал бы!
А Красников держал и воевал. У меня обострялось желание как можно скорее побывать в тех краях, да и причина была: недалеко от севастопольских лесов, в районе Чайного домика, располагался отряд нашего района — Акмечетский, не щедрый на связь. Как там у них?
Конечно, в те дни я не знал никаких подробностей о жизни красниковского штаба. Было известно: воюют, имеют немалые [158] потери, о них шумят сами фашисты. По каким-то каналам проникало к нам и такое: в Пятом районе в последнее время складывается обстановка неуверенности.
Только уже после войны многое для меня прояснилось.
Сам Владимир Красников тогда придерживался твердого намерения воевать рядом с родным городом. Он блокирован, надо отдать все силы, если нужно — и жизнь, но помочь ему. Короче, командир вел линию, взятую с первых дней борьбы: действовать — и активно — на главном направлении, на «нервном месте».
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| НАЧШТАБА 3 страница | | | НАЧШТАБА 5 страница |
Дата добавления: 2015-06-30; просмотров: 142; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!