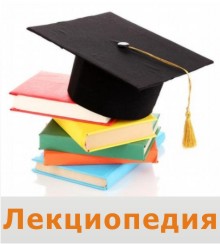
Главная страница Случайная лекция

Мы поможем в написании ваших работ!
Порталы:
БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика

Мы поможем в написании ваших работ!
НАЧШТАБА 5 страница
Комиссар Василенко отлично понимал его, но старался смотреть дальше. Самопожертвования он не признавал. Партизаны есть партизаны, они живы маневром. Надо уходить в более глубокий тыл, а оттуда посылать летучие боевые группы на севастопольские дороги.
Особую позицию занимал начальник штаба района Иваненко. До войны — главный финансист города Севастополя, аккуратный внешне, сухой в общении, официально вежливый, душа под семью замками.
Иваненко гнул свою линию, которая была тоже не лишена смысла и сводилась вот к чему: «Никакой партизанской войны во втором эшелоне фронта быть не может. Что могли — то сделали, а сейчас, пока еще не поздно, надо уходить в Севастополь».
Все эти мнения не были частными. Они отражали настроения, живущие среди партизанской массы.
Но последнее слово оставалось за Владимиром Васильевичем. Он собрал командный состав и решительно сказал:
— Не паниковать!
...Ветер разогнал пелену с гор, серыми тучами замораживалось небо. Посыпался мокрый снег.
Красников в это утро был особенно собранным, что почувствовали все. Он велел командирам быть на своих местах, сам с комиссаром Василенко забрался на Сахарную гору и там застыл, прислушиваясь.
Ровно в восемь утра тишина неожиданно оборвалась артиллерийским огнем. Он начался со стороны противника, но уже через минуту дружно ответил Севастополь.
Дуэль между нашими морскими батареями и немцами становилась все жарче. Отдельные снаряды пролетали стоянки партизан и оглушающе рвались, дымно, но без пламени.
Полчаса качало горную гряду, ходил ходуном лес, а потом как отрезало. Только пороховая гарь остро била в ноздри.
Минута тишины перед атакой... Кто из фронтовиков не помнит ее!
Комиссар с тяжело опущенным подбородком уставился в одну точку, Красников протер пальцами стекла пенсне. [159]
Ни командир, ни комиссар не предполагали, что эта дуэль непосредственно коснется их самих и подчиненных им отрядов. Что она просто отвлекающая сила, что под ее прикрытием подбираются к партизанам каратели.
И вдруг, прямо под ногами, автоматные очереди, свист пуль и беспокойный бас Верзулова — командира Железнодорожной группы:
— Фашисты!
Крики:
— Сюда! Сюда!!
Красников скатился с горы, увидел Михаила Томенко.
— Где ваши?
— Вот рядом.
— Атакуй! — Красников показал на тропу.
Группа железнодорожников метнулась вправо и тут же увидела немцев, осторожно нащупывающих тропку на Сахарную гору.
Красников перебежал поляну, пули взрыли за ним снег.
Чья-то сильная рука пригнула его к земле.
— Убьют, командир!
Это был командир группы Михаил Якунин, бывший секретарь Корабельного райкома партии.
— Много наших? — отдышавшись, спросил Красников.
— С полсотни. Думаю так: немцы не минуют поляну.
И буквально через минуту в двадцати метрах от партизан появилась цепь карателей. Немцы осмотрелись, а потом сбились плотнее.
— Якунин, нельзя упускать! — шепнул Красников.
— Не упустим, командир. А вы отползите назад, прошу!
— Хорошо!
Не успели каратели пробраться через узенькую полоску кизильника, как в упор застрочили якунинские автоматы.
Но немцы опытные, они вмиг рассыпались и ответили более сильным огнем. Появились раненые якунинцы.
Красников увидел комиссара. Вокруг него жался тыл соединения: штаб, санчасть, комендантский взвод.
Три очага боя наметилось. Каратели, по-видимому, решили прижать отряды к Тещину Языку — горному плато над пропастью. Оттуда один выход — лобовая атака, а это
равносильно гибели всего партизанского ядра. Было ясно: враг отлично ориентирован, у него опытные проводники.
Я за время партизанства в Крыму несколько раз оказывался в обстановке, схожей с той, в которой сейчас находился Владимир Красников. И все же не могу передать, как складывается правильное решение. Главное — чутье. Есть что-то внутреннее, что толкает тебя именно на такой шаг, а не на другой. Помню свой второй бой в том же коушанском гарнизоне, куда мы в час ночи лихо ворвались, а в шесть утра не могли оттуда [160] выйти. Фашисты перехитрили нас, выскочили из гарнизона и заняли господствующие вокруг Коуша высоты, отрезав дороги и тропы, ведущие в лес. У нас было одиннадцать раненых, а в подсумках пусто. Момент критический. Я не знаю, какое решение принять. Пять минут раздумья. Для партизан они показались вечностью. «Веди, веди скорее!» — кричала наша медичка. А я не знал, куда вести. И вдруг изнутри толчок: «Спускайся снова в село и выходи на асфальтовую дорогу, идущую в сторону Бахчисарая. Там тебя не ждут!»
И я прислушался к своему внутреннему голосу, повел партизан в... Коуш. За спиной моей кто-то паниковал: «Он к фашистам нас ведет!»
Я резко повернулся на этот панический крик и поднял пистолет.
— Не надо, командир! — Мягкая рука медички Наташи прикоснулась к моей небритой щеке. — Не надо, и так хватит, — еще раз повторила девушка.
Мы спустились в Коуш, сбили небольшой заслон врага, прихватили на ходу подводу, уложили на нее раненых и выскочили на асфальт. Мы бежали с километр, а потом свернули в русло реки Марта и по нему поднялись в горы.
Я до сих пор не знаю, почему так поступил, но знаю: по-другому было нельзя.
И Красникова, по-видимому, повело такое чутье.
Он сколотил ударную группу, до ста партизан, и предпринял неожиданную для врага атаку. Он вел отряд прямо и открыто по лесной дороге вдоль кизильника, за ним комиссар тянул довольно громоздкий тыл. Метров пятьсот прошагали, и, к удивлению всех, никакой помехи со стороны карателей не встретили. Тут, наверное, чем-то был нарушен немецкий расчет, а стоит нарушить его, как ломалась самая хитроумная комбинация, — это я на своем опыте знаю.
Красников круто повернул отряд и оказался над... немецкой цепью, в ее тылу. Командир не потерял ни единой секунды на размышления, а сразу же атаковал.
Результат ошеломляющий: до двух десятков убитых карателей, а остальных как не бывало — вмиг исчезли! Немцы умели в лесу появляться внезапно, но исчезали еще сноровистее.
Были случаи и совсем парадоксальные. Когда Михаил Томенко атаковал первую немецкую цепь, она рассыпалась в беспорядке: где свои, где чужие — не разберешь. Партизан Николай Братчиков, бывший железнодорожник, человек смирный и исполнительный, неожиданно встретился с предателем Ибраимовым. Братчиков не знал и не слыхал, какую роль выполнял бывший снабженец партизан, принял его за родного человека, как и он попавшего в беду. Ибраимов сразу это смекнул и спросил как ни в чем не бывало:
— Где же наши, черт возьми? [161]
- — По-моему, левее, левее надо брать, — искренне советовал Братчиков.
Ибраимов скрылся, а затем из-за куста послал вслед партизану пулю, но она пролетела мимо — предатель нервничал.
Ошеломленный Братчиков вернулся к Верзулову и честь по чести доложил о случившемся.
— Вот растяпа, а еще путеец! — Верзулов даже матюкнулся, чего за ним никогда не наблюдалось.
Николай Братчиков — храбрый, скромный — до конца жизни не смог простить себе оплошности.
Смелые контратаки партизан, по-видимому, здорово перепутали планы карателей.
Вообще немцы очень нервны в тех случаях, когда неожиданно нарушается ритм операции, разработанный ими до мелочей.
Нарушить ритм не так-то просто. Это удается не всем, но все же удается, ибо все случаи жизни не предусмотришь, имей хоть семь пядей во лбу.
Передо мною картина июньского утра 1942 года. Мы тогда хорошо и накрепко были связаны с Большой землей, к нам каждый день на рассвете прилетали самолеты.
Немцы это знали и ломали голову: как перехватить то, что упало нам с неба, нарушить нашу связь с Большой землей?
Многое им удалось. Обошли всю сложную систему наших застав, подкрались под то самое место, куда мы складывали подобранные парашюты с продуктами и взрывчаткой. А надо сказать, что именно на этот раз нам доставили летчики наибольшее количество крайне нужного груза.
Появление немцев для нас было негаданным-нежданным. Только чудо могло спасти наши продукты, да и нас самих.
И это чудо нашлось, и творец его Леонид Вихман, тот самый, кто у Макарова «зарабатывал» партизанскую визу. Он с десятью матросами спрятался за толстыми деревьями в... десяти метрах от поляны с парашютами, скрылся за пять секунд до появления эсэсовского батальона.
Немцы бежали к парашютам, бешено прочесывая автоматами дорогу впереди; в один момент были заняты все тропы, ведущие к поляне. А Вихман не спешил. Не знаю, как это ему удавалось. Сейчас я иногда встречаю его — облысевшего, одетого с иголочки, увлекающегося музыкой и любительскими киносъемками — и, хоть убейте, не могу его представить в роли легендарного партизанского вожака знаменитой осиповской группы.
В разгар упоения «победой» ударило одиннадцать вихмановских автоматов, и сразу было скошено до сорока фашистов. [162]
Такой паники лес еще не видывал: каратели бежали, оставив на Аппалахской поляне не только трупы, но и раненых. Они бежали очертя голову более десяти километров, группами и в одиночку, как стадо баранов, напуганное внезапным горным обвалом.
То, что последовало позже, было еще удивительнее: нарушилась вся система блокады заповедных лесов, где располагалось до полутора тысяч партизан. Мы этим отлично воспользовались и безостановочно посылали боевые группы на дороги.
Так и на этот раз. Красников в какой-то точке переломил линию плана, и все пошло кувырком. Фашистские роты прочесывали севастопольские леса, но как-то бессистемно.
Шли они только по лесным дорогам, обстреливая наугад все мало-мальски подозрительные, с их точки зрения, места, но глубоко в горы не заходили и точно не знали, где же партизаны.
Потом они пришли в себя и начали снова действовать более или менее разумно, а главное — настойчивее, охватывая участок за участком. Тут снова появилась система.
Их настойчивость поражала. Стало совершенно ясно: они не покинут леса до тех пор, пока останется в них хоть один партизан.
Отряды впервые познакомились с немецким упорством.
Красников понял: напрасно он не посчитался с мнением комиссара. А что, если сейчас вырваться из кольца и отойти от фронта в тыл километров на двадцать?
Думал командир Пятого района, но думал и враг. Он хорошо понимал, куда могут пойти отряды, и сделал все, чтобы сорвать красниковский маневр.
И сорвал.
Есть у нас в Крыму люди, которые даже сейчас пытаются взять под сомнение действия Красникова. По этому поводу припоминаются слова из «Витязя в тигровой шкуре»: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны».
Партизанам ничего не оставалось делать, как пристальнее и пристальнее приглядываться к «системе». И в данном случае враг оказался верен своей пунктуальности. Прочесал один участок, — положим, тридцать второй квадрат, — начинает тридцать третий и так далее. И ни разу не возвращается к прочесанному.
Комиссар Василенко так кратко охарактеризовал новую тактику: «Маневрируй и не забудь по сопатке дать!»
Именно под Севастополем начала формироваться наша партизанская тактика. Конечно, поначалу она была шероховатой, но потом отшлифовалась и стала той силой, которую немцы так и не смогли одолеть за годы оккупации Крыма. «Внутренний фронт», как выразился в свое время Манштейн, — извечный нож в спину оккупантам. Это они были вынуждены признать публично. [163]
Много боев провели партизаны-севастопольцы. Участников этих боев почти не осталось в живых. В архиве же можно найти только документы приблизительно такого содержания: «Группа под командованием тов. Н. в районе перевала Байдары — Севастополь напала на немецкий транспорт; разбита одна семитонная машина, две — пятитонных, убито 11 солдат. Отличился партизан тов. П.». Вот и все.
Михаил Томенко вспомнил со всеми подробностями один из характерных эпизодов из жизни севастопольских партизан. Вот как он отложился в моей памяти.
Изреженный недавней вырубкой и снарядами лес. Он чем-то похож на заброшенное кладбище. На обочинах мелкий, но густой кустарник, как стена. Там партизаны-железнодорожники с Верзуловым во главе. Они только что оторвались от карателей, разгоряченные, злые.
— Михаил Федорович! — шепнул Верзулов.
Томенко отозвался. Он был худ, поджар. Время будто возвратило ему прежнюю прыть. Собственно, почему возвратило — ведь ему сейчас только под тридцать! — скорее, сняло жирок, который все же был нажит в мирной жизни.
— Бери своих и айда на перевал. Устрой там концерт, да пошумнее. Мы под твою музыку отойдем в Слепое урочище.
Слепое урочище! Его вчера тщательно прочесали немцы.
Томенковская пятерка скрылась за кустами. Впереди — проводник по имени Арслан. Фамилию, к сожалению, Томенко не вспомнил, но знал: прислал его Красников, было ему известно, что за этим человеком гоняются предатели, потому он скрывает свою фамилию. Проводнику около двадцати пяти, фигура как из бронзы, литая, выносливость потрясающая, ходок — днем с огнем такого не найдешь. Он коммунист, работал не то колхозным бригадиром, не то учетчиком бригады. В партизаны попал во время отхода наших войск на Севастополь. Пришел в обгоревшей красноармейской шинели, голодный, продрогший, чем-то понравился, хотя в те времена настороженно принимали незнакомых людей.
Парень показал себя на боевом деле. Он презирал фашистов, но еще более презирал местных предателей и двурушников. Помимо всего — удивительное чутье местности, прямо кудесник какой-то. Принюхается, раздувая тонкие точеные ноздри, и возьмет абсолютно верное направление... И понимает товарищей. Посмотрит в глаза кому — открытую книгу читает или сердце будто руками ощупает.
Вслед за проводником шел сам командир группы. Томенко вообще-то числился тогда в рядовых, но ему доверяли отдельные операции. Он за эти дни и сам стал «чуять» лес, отлично в нем ориентируется.
За командиром шагает Петр Кириллович Ларионов — старший по возрасту. Он и Томенко — давнишние друзья: на одном [164] паровозе работали, в одно время в партию вступали, у обоих сноровка людей, стоящих за штурвалом локомотива.
Правда, в последние годы их пути как-то разошлись. Ларионов секретарствовал в парткоме Симферопольского депо, но за несколько месяцев до начала войны снова вернулся в родной Севастополь, на паровоз, к старым друзьям. В отряд прибыл вместе с сыном и тяжело переживал: парень еще до паспорта не дорос, ему учиться надо, а не воевать.
Был в томенковской группе еще человек — составитель поездов, отец большого семейства, скромный и сдержанный Александр Дмитриевич Васильев. Из тех, о ком говорят: «Он муху не обидит». Жалостливый к людям, исполнительный и во всем обязательный. Пришел в партизанский отряд добровольно, точнее — напросился туда, и никто не посмел ему отказать. Товарищи по работе давно пытались подсказать ему: «Дядя Саша, ты по духу человек партийный. Просись — примем, а?» Он волновался, но не нашел смелости подать заявление о приеме, в минуту откровенности признавался: «А вдруг откажут, больно смирный для партии я человек».
Но в лесу от его видимой робости и следа не осталось. Как-то пришлось Александру Дмитриевичу собственными глазами наблюдать картину, которая перевернула всю его душу: у лесной сторожки Адымтюр каратели облили керосином глубокого старца деда Матвея и заживо сожгли. Васильев похоронил его, в тот же день разыскал комиссара и твердо, на «ты» обратился:
— Дашь рекомендацию в партию?
— Пиши заявление.
Такова была эта группа, шагающая на перевал.
Проскочили через голый известняк, стали спускаться по северному склону гор. Узел троп, взгляд проводника направо, потом налево — и уверенный шаг в нужную сторону. Ну и чутье! Сильным броском преодолевает сырое ущелье и точно выходит к дороге.
Лес тут кончается, и будто на глазах все пространство вокруг сразу оголяется. Прячась под низкими кустарниками, партизаны ползут ближе к краю обрыва, боясь шевельнуть
даже камушек какой, который может своим падением вызвать шум. Колючий можжевельник. Под ним и залегают плотнее, вжимая тело в каменистую землю.
На дороге лежит снег, но жидковатый. Черная колея говорит о том, что недавно прошли машины на Севастополь.
Ждали недолго. Сначала появились три мотоциклиста. Они гнали машины с треском и шумом. Вообще немцы старались на дорогах создавать как можно больше шума, грохота, будто им была в том особая нужда. Они и пугать нас хотели, и свой страх этим шумом обволакивали. [165]
Проводник посмотрел на командира, но Томенко дал понять: «Этих пропустить!»
Умчались патрульные, оставив на дороге плотные кольца синего дыма.
Затихло на минуту, а потом стало слышно, как в лесу вспыхивала то там, то ближе к дороге короткая перестрелка и сразу затухала. Видны были зеленые ракеты, лениво падающие в темнеющем небе.
Воя перегретым мотором, полз на перевал чем-то похожий на доисторического мамонта семитонный «бенц», крытый брезентом. За ним натужно тянулся другой, обдавая задние скаты сизо-огненным дымом, который странно закручивался.
Ну и моторы — силища! Даже горы от них мелко дрожат.
Вот первая машина рядом с Михаилом Федоровичем. Он чуть приподнимается и с силой швыряет под задний мост противотанковую гранату.
Гигантская машина по-козлиному подпрыгивает, гулко валится набок, с грохотом высыпав ошалевшую пехоту.
Еще, еще гранаты...
Раскололась и осела другая машина. Из нее несутся душераздирающие крики.
Партизаны строчат из автоматов. Надо отдать должное противнику: какой-то офицер что-то зычно скомандовал, и все, кто были на ногах, моментально подчинились этой команде, сходу заняли боевые позиции, и шквал свинца прошелся по кромке обрыва, где лежали партизаны.
— Отходить!
Бежали за молодым проводником, вслед — свинцовый дождь. Пули секли верхушки крон. Немцы успели выскочить на обрыв, пули заплясали ниже, отбивая осколки у скал.
Вдруг проводник замер, будто его пригвоздили на месте.
— Что?! — заорал Томенко.
Тот по-звериному оглянулся — так оглядывается олень, внезапно настигнутый человеком, — круто вильнул в сторону и скатился на дно скользкого ущелья, ведущего не куда-нибудь, а снова на... дорогу.
— Куда ведешь, гад? — Томенко сжал цевье автомата.
— Туда, командир!
Ущелье привело к водосточной трубе, лежавшей под дорогой, поперек. Втиснулись в нее и выскочили на другую сторону дороги, в густой дубняк — аж на душе полегчало. Тут снега почти не было, и под ногами стлались медно-ржавые листья. По ним шагать можно без следа.
Надо передохнуть малость, но в чем дело? Арслан и не думает здесь задерживаться.
— Ты куда?
— Э, нельзя, фашист быстро придет! [166]
Покинули дубняк, который казался таким безопасным местом, ткнулись носом в голую поляну. Увидели одиночный сарай, длинный и приземистый. Рядом — низкие богуны, в них сушат табачные листья. Сарай находился метрах в трехстах от села с крупным немецким гарнизоном и почти рядом с той самой дорогой, по которой и следовали немцы, разгромленные партизанами на перевале.
Томенко понял мысль проводника — дерзкую, отчаянную: идти на риск, переждать опасность на виду у врага.
Подогнала стрельба, которая уже неслась из дубняка.
— Давай!
Проводник пополз по табачной делянке, среди прошлогодних стеблей с потемневшими от мороза листьями ценного крымского дюбека. Он полз, не смея и на секунду поднять голову. За ним остальные, плотнее прижимаясь к холодной и неуютной земле. А на дороге двигались немцы, слышался лай собак, и от этого лая душа уходила в пятки.
Собаки! Правда, очень мокро, но черт их знает, этих приученных немецких овчарок: может, они в любую погоду умеют брать след?
Через разбитое и перекошенное окно забрались наконец в самый сарай, огляделись. На скорую руку распотрошенные тюки. Аромат вялых листьев, и никаких следов пребывания человека.
Заняли, на неожиданный случай, боевые позиции и притихли, глядя во все глаза. Отсюда выхода сейчас нет, но одно лишь пребывание за толстыми стенами сарая, выложенными из плотного горного камня, в какой-то мере успокаивало. Врешь, запросто нас не возьмешь!
По дороге нервно двигались немцы. Стрельба шла на перевале и в дубняке.
Бывали минуты, когда стрельба настолько приближалась, что казалось: фашисты вот-вот появятся на опушке дубняка, присмотрятся и поймут, где спрятались партизаны.
Партизаны с нетерпением ждали темноты, но понимали, что могут и не дождаться ее. Все боеприпасы выложили .перед собой, и каждый был готов на худшее.
К вечеру увидели на дороге похоронный эскорт немцев. Они медленно везли убитых; каски в руках, плечи солдат опущены.
Потемнело неожиданно: сперва на перевал упала черная туча, вслед за тем стала чернеть и будто провалилась куда-то вся долина.
И все одновременно почувствовали голод. Пошла в ход конина, запили ее водой из фляг. Каждому почему-то хотелось выговориться, но страсти сдерживали. Ночью партизаны оставили спасительный сарай. Шли далеким кружным путем. [167]
...Летом 1966 года я и Томенко искали этот самый сарай, но нашли только фундамент от него. Дубняк стал мощным лесом, на табачной делянке блестела гладь небольшого водохранилища. И то место на обрыве, откуда партизаны швыряли гранаты, узнать было трудно. Будто сама гора осела, и перевал показался не таким крутым. Мы нашли старую полуось, разорванную силою взрыва противотанковой гранаты.
...Верзулов чуть не задохнулся.
— Живы, черти! — Он обнял каждого в отдельности. — То-то, Биюк-Узень-Баш!
Биюк-Узень-Баш, Кучук-Узень-Баш — названия двух горных речушек, бегущих в ущельях за Главным Крымским каньоном. Верзулов в смысл не вдавался; ему, по-видимому,
нравилась звонкость произношения. В хорошем настроении он всегда напевал: «Биюк-Узень-Баш, Кучук-Узень-Баш».
Проводник был счастлив — его похвалил сам Верзулов — и даже от избытка душевных чувств «оторвал» танец горных пастухов, правда вместо ярлыги — пастушьего посоха — размахивая полуавтоматом.
Настроение было неплохим, но не обошлось и без ложки дегтя.
Я уже упоминал о начальнике штаба Иваненко — человеке с трагическим взглядом.
Он вызвал к себе командира группы Федора Верзулова, строго спросил:
— Кто разрешал действовать на перевале?
Верзулов готов был взорваться, но, к счастью, в разговор вступил сам Красников:
— Молодцы железнодорожники! Только надо было штаб информировать своевременно. С этим все! Как настроение рабочего класса?
— Нормально. Лошадь в расход пустили.
— Сухари есть?
— Нет!
Красников раздумывал, а Верзулов ждал. Он давно добивался разрешения побывать на продовольственной базе, которая была в километре от переднего края фронта.
— Нельзя! — выдавил командир. Он снял пенсне. Три глубокие складки собрались у переносицы.
Штаб нашего района держится на том самом месте, на котором я встретился с Бортниковым, по-прежнему через нас проходят севастопольские связные. Бывает это обычно так: вдруг за нашим утепленным шалашом раздается знакомое:
— Кто меня карским шашлычком угостит, а? [168]
Азарян вваливается в шалаш, пошуршит промороженным плащом, набрешет с три короба: вот встретился чуть ли не с эсэсовским взводом, да провел их вокруг носа; потрясет автоматом, постукивая сухим пальцем по цевью:
— Друг... Ни разу не подвел!
Я слушаю его с улыбкой, не верю ни одному слову и убеждаюсь в том, что правильно поступаю: достаточно глянуть в канал ствола оружия, чтобы понять — из него не стреляли.
— Раф! А ведь чистить друга все же надо, а?
— Чистим-блистим, шип шима! Много понимаешь, механик! Мой друг от стрельбы поржавел!
Но после шутливой перебранки связной рассказывал о делах отряда, и мы ахали от восхищения.
Севастопольцы все еще держались во втором эшелоне фронта. Их постоянно преследовали не только каратели, но и регулярные немецкие войска, которым очень хотелось обезопасить свой тыл.
Красников все же умел маневрировать, а его летучие партизанские группы, наподобие фоменковской, непрерывно изматывали врага на самом что ни на есть «нервном» месте.
Красниковская тактика путала карты врага, ставила его перед неразрешимой проблемой. Немцам не верилось, что с тыла их бьют те самые партизаны, за которыми так упорно гоняются каратели. Они снова вернулись к своим прошлым догадкам: Севастополь нашел где-то лазейку на линии фронта, и через нее-то и просачиваются матросы в черных
бушлатах, наводя ужас на тылы. Был случай, когда в руки врага попал матрос-разведчик, взорвавший дот в трех километрах от переднего края. С тех пор враг еще больше усилил охрану линии фронта, заминировал абсолютно все тайные тропы, чтобы раз и навсегда закрыть дорогу людям в черных бушлатах, бесшумным теням, скользящим по тылам и моментально исчезающим, стоит только обнаружить их. «Они, — рассуждали немцы, — имеют, наверное, тайные ходы в Севастополь! А почему нет? Тут, в этом смертельно опасном месте, все может быть». Враги каши и на самом деле искали эти тайные ходы.
Пусть ищут, пусть будет так, как они думают. Севастопольские партизаны не возражают, чтобы их удары приписывались защитникам родного города. Они даже горды этим.
Но настроение настроением, а та объективная обстановка, которая стала складываться вокруг отрядов, стала работать против партизан.
Голод! Он начал подкрадываться медленно, но угрожающе. Ибраимов выдал не все базы. Однако те, которые оставались, находились на линии артиллерийских позиций противника. Вот пойди туда и попробуй вынести хотя бы мешок сухарей!
Ибраимов знал все базы, но почему-то выдал только часть их, а другие дли чего-то сохранял. [169]
Тут был, по-видимому, свой умысел: предавать, но так, чтобы внакладе не остаться. Ликвидируется под Севастополем фронт, уберутся войска, тогда можно и базами распорядиться по-своему. Как-никак, а там есть и мука, и сахар, и консервы, и всякие другие продукты.
Правда, опасно поступать так, ведь узнают фашисты — не простят.
Но вся жизнь стала риском, так почему не рискнуть в свою пользу...
Так, а возможно, и не так рассуждал предатель, но некоторые базы пока никто не трогал. Не трогали их и партизаны, хотя и наблюдали за ними.
Ударили морозы, удивительно не по-крымски мучительные, а костра не распалишь — сразу выдашь себя.
Еще одна беда — прервалась всякая связь с Севастополем. А была отличной: партизаны легко пробирались в штаб морской бригады и оттуда по телефону могли связаться с секретарем Крымского обкома партии Меньшиковым и первым секретарем Севастопольского горкома партии Борисовым.
Увы! Немцы поняли, какими дорогами идет информация в город, и прикрыли их. Секретные заставы и засады ждали партизанских связных на всех тропах. Сколько было попыток пробраться через фронт, но все они, как правило, стали кончаться печально.
Была бы рация! Радист Иванов сумел бы отстукать свои точки и тире. Но... кто-то недоглядел: Красникова снабдили старой станцией системы «5-АК», и она никуда не годилась, как ни бился над ней радист Иванов. И ценнейшие рзведданные, как воздух, как свободное дыхание нужные Севастополю, туда не попадали. Вспомнить страшно!
Уже находились отчаянные головы, которые на свой страх и риск пытались перейти линию фронта. Фашисты ловили таких, пытали. Товарищи наши гибли в гестаповских подвалах, но истинное состояние отрядов скрывали и никакой информации врагу не дали.
Поступки этих «беженцев», которых строго осуждали партизаны, имели и некий результат, работающий на отряды. Немцы вдруг стали утверждаться во мнении: конечная цель Красникова — уйти в Севастополь. Уверовав в это, они все свое внимание
сосредоточили на подступах к линии фронта. Блокада на востоке ослабла, а через некоторое время практически исчезла. Остались лишь подвижные патрули, не особенно старательные. А тут ударили сильные морозы, и вражеские дозоры только для блезиру являлись в районы патрулирования.
Решение: не мешкая покинуть второй эшелон фронта. Готовились тайно; мало того, пустили слух, что отряды далеко не уйдут, «закружатся» в районе Кожаевской дачи. [170]
Еще раз попытались связаться с городом. Выбор пал на партизана томенковской группы Александра Дмитриевича Васильева, того самого, который в отряде вступил в партию.
Это безотказный человек. Однако товарищи приметили: что-то неладное с ним творится. В походе, например, особенно на подъеме, он задыхается, отойдет в сторону, спрячется от людей и, ухватившись за сердце, дышит тяжело, с хрипом.
Поняли: болен, очень болен, но скрывает болезнь. В своей партизанской практике я встречался с такими людьми, и они меня поражали. Вспоминается одна из трудных операций, час, когда мы уже вышли из боя. Объявляем привал, отдыхаем, а потом снова марш. Кто-то вдруг не поднялся, подходишь к нему, а человек мертв. Потом узнаешь: уже давно мучался, но скрывал свои мучения: не хотел стать обузой для других.
Васильев болен, ему надо помочь. Он пойдет на Севастополь, непременно пройдет туда, и там его полечат.
Комиссар Василенко не любил напутствия. Вручая пакет связному, сказал:
— Иди и дойди! В нем и протокол собрания о твоем приеме в партию.
— Дойду, товарищ комиссар.
Ушел Васильев и, как водится, пропал.
Так мы о нем ничего и не знали, пока не была установлена прочная связь с Севастополем, а это случилось тогда, когда тех, с кем прощался Васильев, осталось в живых очень мало.
Он сумел обойти засады и заставы, секреты и тайные тропы, напичканные противопехотными прыгающими минами, и до Севастополя дошел. Мы не знаем его дороги, но догадываемся: она была тропою смерти. На пятые сутки он появился в городе, в горкоме партии, получил партийный билет и уплатил первые в жизни взносы. Он дважды повстречался с секретарем горкома и с председателем Комитета обороны города Борисом Александровичем Борисовым, но вторая встреча была для него и последней: Александр Дмитриевич Васильев скончался от разрыва сердца.
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| НАЧШТАБА 4 страница | | | НАЧШТАБА 6 страница |
Дата добавления: 2015-06-30; просмотров: 149; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!