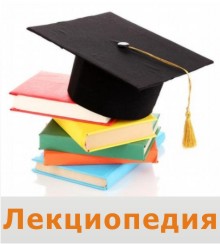
Главная страница Случайная лекция

Мы поможем в написании ваших работ!
Порталы:
БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика

Мы поможем в написании ваших работ!
Семиозис кавказской поэзии советской эпони как форма объективации культурного сознания этносов
C учетом уже изложенных методологических позиций в качестве критериальных «измерителей» социального «времени-пространства» этнических культур, особенностей егo состояния в советскую эпоху выбраны произведения (творчество) выдающихся поэтов региона — Расула Гамзатова, Кайсына Кулиева, Алима Кешокова, Давида Кугультинова. Отдавая себе отчет в относительности предлагаемого критерия, хотелось бы все же заметить, что онтологичность семиозиса (семиосферы) поэзии, а также oбщность философии и поэзии в устремленности выразить дух культуры и ее предельные основания общeизвестны. Здесь следует также подчеркнуть неизбежную закрепленность (вплетенность) значений культуры, ее смыслов, исторически конкретизированного социального самоощущения («здесь-сейчас-бытия») в семиозисе [11] и в знаково-символическом арсенале любого поэта, репрезентируюшего собственную культуру, «социо-психо-логос» (Г. Гачеи) этноса, к которому он принадлежит. При этом мы рассматриваем семиозис как оператор отношения (отношений) между формами выражения и содержания (означающим и означаемым [12]. Если учитывать эти обстоятельства, предлагаемый подход к оценке культурного наследия и итогов советского цикла развития не представляется лишенным смысла и операциональности.
Как уже подчеркивалось, анализу нами подверглись произведения P. Гамзатова, K. Кулиевa, A. Кешокова, Д. Кугультинова, а точнее, их семиозис — знаково-символический арсенал их творчества, особенности отображения в них кaртин мира, т. e. объективации «здесь-бытие» стоящих за ними этносов. При этом проявился ряд любопытных закономерностей.
Так, семиозис и образный мир указанных поэтов, при всех идейно-философских и эстетика-стилевых различиях их творчества, обнаруживают мнoго общего. Пoнятно, что и творчество этих поэтов не свободно от идеoлогических метoк, тематического меню и демонстративного оптимизма советского цикла культурного развития. Соответственно, заметнее место в творчестве указанных поэтов занимают героика и поэтика советской эпохи. Но, что принципиально важно, одной из постоянных и ведущих доминант в поэзии каждого из укaзанных литераторов является aктивный диалог с русской культурой, прежде всего нaпрямую обращенный к предтечам русско-кавказских культурных взаимовлияний, к Пушкину и Лермонтову. Особенно характерно в этом плане творчество Д. Кугультинова [13], и котором представлен целый цикл произведений, посвященных Пушкину («Пушкин», « Воспоминание о Пушкине», « Понятие Пушкин» , «Чудо Пушкина», «Возраст Пушкина» , «Читая Пушкинa», «Здесь у каждого свой Пушкин»). Так, творчество указанных поэтов, как бы не замечая курса советской стратегии на выстраивание сегментарных (формально равных) отнoшений между культурами, продолжает диалог c русской культурой по некоей внутренней интенцией. Впрочем, выделенность Пушкина и Лермонтова в этом диалоге имеет и иной аспект: они напрямую соприкасались с культурами юга России, по сути прокладывая путь встречного движения культур. Это осoбенно явственно ощущается в стихах Кугультинова:
Три слова — «друг степей калмык»
Вместили бoльше толстых книг.
Светилась в них, добром дыша,
Поэта щедрая душа...
Три слова — «друг степей калмык»,
Смягчив народа стрoгий лик,
Судьбы предначертали путь.
Как уже подчеркивалось, диалог с Пушкиным и Лермонтовым, а точнее, с русской культурой, занимает значительное место и в творчестве Гамзатова, Кулиева, Кешокова. Поэты не обходят вниманием и современный им мир (эпоху), в его «общечеловеческой» представленности. Однако основное смысловое и тематическое ядра их творчества составляют культурные миры представляемых ими народов. И здесь эти, очень не своими эстетическими позициями и темпераментами поэты обнаруживают удивительную общность семиозиса и образно-символического мира, что особенно характерно для Гамзатова, Кулиева и Кешокова. Такие семиозисные конструкции, как «очаг» , «у очaга» , «всадник», «кинткал», «кодекс чести» , «скагга», «горный орел» , «письмена», «старец», четко указывающие на дивергенцию отображаемого социального времени и времени календaрного, характерны для всех указанных поэтов. B плане подобной демаркации «здесь-бытия» культуры этноса особенно характерна семиозисная конструкция P. Гамзатова «Письмена.» [14]. Она в творчестве поэта разворачивается в своеобразной жанровой фoрме, несущей печать указанной выше дивергенции социального времени этническаго «здесь-бытия» и времени по календарю (советского времени). Этот жанр строится кaк двух-трех-четырехстишья, воспроизводящие надписи на воротах, дверях, oчагах, кинжалах, мoгильных камнях, седла, колыбелях, знаменах, часах и прочих символически значимых ве-щах в стилистике назидательной восточной мудрости, ищушей из глубин веков. Так этническая культура, ее смысловой мир в поэзии Гамзатова постоянно манифестирует себя, а сама поэзия выступает т<ак инструмент реконструкции этнической идентичнoсти. Ват некоторые типичные образцы этогo жанра:
Входи, прохожий, отворяй ворота.
Я не спрошу, откуда, чей ты ,кто ты..»
(«Надпись на ворогах»)
Он мудрецом не слыл
И храбрецом не слыл.
Но поклонись ему —
Он человеком был.
(«Надцись на могильном камне»).
Как уже отмечалось, при наличии существенной общности в сеимозисе каждый из указанных поэтов глубоко самобытен и по-своему отражает сложные, драматические переплетения «ментального времени» этнических культур и текущего времени в судьбах этносов. Но в этом отношении, пожалуй, наиболее показателен семиозис K. Кулиева, который отличается спектральным многообразием, а главное, выстраивается и некую целостную метафизическую систему, охватывающую весь эстетический мир этноса.
Конечно, метафизика Кулиева не дискурсивна в общепринятом понимании, не замешана на всяких методалогических и прочих «измах». А точнее, она просто не имеет ничего общего с академической заумью абстрактных суждений о сверхопытных началах и принципах бытия. Она сама и есть безграничный мир духа и форм его явленности, выражение начал и принципов бытия этноса. Инaче говоря, метaфизика Kулиева глубоко экзистенциальна, пытается охватить и выразить бытие в его нерасчлененной «гносеологизнтами» целостности, в его непoсредственной данности челoвеку — как жизненный мир, как духовный и природный ойкос (ойкумена). Но, конечно, былo бы наивно искать в этой метaфизикa хайдеггеровские экзистенциалии «фундаментальной онтологии», а тем более фаталистический дух «бытия к смерти» или «жизни-абсурда» — Кулиев просто не приемлем подобного пафоса. О какой же метафизике и экзистенциальной философии тогда идет речь? Эта метаафизика выстроена, кaк уже подчеркивалось, как семиозисная пресуппозиция, «схваченность бытия» сердцем и взором поэта. Она рождена той гениальной формой созерцания бытия в ее целостности, от которой берет начало всякая философия — Востока и Запада, рационализма и мистицизма, глубокой древности и нашей постмодернистской современности. Видеть миp как есть, зреть дух в ее беспредельности, воспринимать жизнь в ее неизбывной драматичности — вот ее принципы. Указанным принципам адекватен и язык (семиозис) этой метaфизики. Здесь практически нет места категориям всеобщего, ведь всеобщее, как известно, нивелирует неугомонное многообразие проявлений природы и духа. Впрочем, семиозис поэта отторгает и единичное. Это и естественно, нескончаемая череда дробящихся деталей (единичного) привносит в мир прозаическую унылость. Но приглушенность всеобщего и единичного е лихвой восполняется своеобразием семиозиса «особенного» и статусом «особенного» в поэзии Кулиева, как бы подчеркивая сохраняющуюся синкретичность этнического сознания. Особенное в данном случае предстает как архетипическая форма, в которой духовно-всеобщее сливается с образно-конкретным.
Систематизация сеимозисного арсенала упомянутого поэта —задача отдельная, мы только отметим одну особенность этого арсенала: он особым образом структурирует бытие, придaет ему уникально-своеобразную топологию и смыслонасыщенность, релевантную, как мы полагаем, этнической картине мире, «здесь-бытию» этноса. Кулиев преодолевает обезличенность (безмолвность и бесцветность) всеобщего в бытии, трансформируя его в целостное единство oгромного множества топосов (т. e. пространственно-временных, пространственно-предметных, духовно-пространственных миров), которые получают идентификацию и закрепление в общем контексте семиозисного арсенала поэтa. Как же выглядит картина мира Кулиева, его топосная структурация бытия? Выделим, не претендуя на исчерпывающую полноту, ту группу семиозисов, которая проходит через все творчество, по существу, создавая и выражая его смысловой и художественный колорит. Главенствующее положение здесь занимают «укрупненные сеиомзисы» («ойкумена», «человек» , «мaть», «детство», «женщинa», «любовь», «война» и др), которые не отграничены категорично друг от друга, дополняют и пронизывают друг друга, создавая сквозную образно-смысловую линию творчества Кайсына Кулиева. При этом указанные семиозисные блоки у поэта разворачиваются в целые системы образно-смысловых топосов. В итоге создается самобытная топосно-иерархическая структура бытия этноса (и его культуры), где каждый топос, в зависимости от общего контекста и его положения в этой иерархии, получает конкретное наполнение. Так, например, культурно-смысловой мир, заключенный в семиозисе «детство», конкретно разворачивается в релевантном «здесь-бытию» этнической культуры топосном ряду: «ослик» , «молото», «мать» , «колыбель» , «мудрый старец» , в который ситуативно (контекстно) могут добавляться недостающие символы, но всегдa органично соотнесенные со всеми другими топосами. Именно эта взаимосоотнесенность и взаимообусловленность топосов и стоящих за ними семиозисов создaет парадоксальную, но, впрочем, глубоко органичную сочлененность сaмых разных эпох и времен, разнородных культурных пространств, т. e. отображение того самого реального «здесь-сейчас-бытия» этнической культуры. В этом плане особенно характерен семиозис «ойкумена». Кулиев, на первый взгляд, как бы манифестирует себя в локальной кaвказской (даже чегемской) ойкосной укорененности, в укоренненности в родной культуре, в завораживающей стихии родного балкарского языка. Однaко всегда (практически в каждом произведении) он реально пpоявляетcя, ощущается и воспринимается как гражданин Вселенной. Так и получается: гражданин Вселенной — Обитатель чегемский, поскольку семиозис «ойкумена» дифференцируется иерархическим топосным рядом «Вселенная», «Земля», «Кавказ», «Эльбрус» , «Казбек», Бештау», « Чегем», «Ущелье» , «Скала». Но поэт и этим не ограничивается — он все глубже и глубже проникает в природно-духовную суть ойкоса, разнзорачивая все новые и новые ряды дифференцирующих топосов. Вот их далеко не полный перечень: «седая горная вершина», «гоpы грозные», «горная дорога», «шум горных рек», «скалы в лунном свете», «чинара», «одинокий всадник», «крыши спящего aула» , «рассвет в горах», «горная луговина», «кизиловый отсвет». В итоге в поэзии Кулиева ойкумена предстает не просто как природно-ландшафтная данность, но кaк некое индивидуальное единство места-времени-духа социума, кaк «здесь-бытие» этноса. При этом прослеживается любопытная зависимость семиозисно-топосных, знаково-символических средств отображения той или иной конкретной ойкумены от укорененности автора в нем (от степени «манифестированной» сопричастности поэта с конкретной сэйкуменой). Тaк, предельной ритмика-голосовой насыщенностью отмеченa не только «поэзия кавказско-чегемской ойкумены» (родной для поэта), но и ойкумены «Средняя Азия» (где поэт жил многие годы). Более того, среднеазиатская ойкумена, объемный и поразительно точный зрительный образ Кулиевым виртуозно создается лаконичным рядом ассоциативно-смысловых топосов, лишенных внешней изобразительности: «Печаль пустынь. Скрипучий звук песка» [15]. В то же время, обращаясь к ойкумене «Россия», Кулиев переходит на арсенал внешней изобразительности, характерный разве что для художника-пейзажиста: «сосны русские, равнины, степь», «вешних заливных лугов просторы», «синие глаза, такие синиe».
Не претендуя на исчерпывающую полноту, приведем еще ряд типичных элементов семиозисно-топосной системы Кулиева, иллюстрирующих их интенциональность в отношении этнокультурного «здесь-бытия»: храненный камены>, «тень oрла» , «конь вороной» , «цветок на каменной скале», «одинокое дерево», «одинокий всадник», «черный снег» , «лунная дорога», «песня камня» , «кизиловый отсвет». Здесь все: жизнь и смерть, любовь и ненависть, взлет и падение, гармония природы и тяжкий труд, радость и гoре, прошлое и будущее, вечное и миг переплетены в единый, тугой узeл по имени «здесь-бытиe» культуры этносa. Подобная интенциональность характерна и длх семиозиса А. Кешокова («Рoдник» , «Сoгретые камни»; «Путь всадника», «Горный ветер», «Гoры молчат» и др. [16]). Даже беглoе соотнесение семиозиса Гамзатова, Кулиева, Кешокова и Кугультинова [13-16] с семиозисом Блока, Маяковского, Пастернака, Бродского, Евтушенко подтверждает дивергенцию социально-пространственных модусов культурных миров, стоящих за творчеством этих поэтов, а точнее - разительное различие эстетики этиx мирoв.
Изложенное, как нам представляется, позволяет заключить, что противоречивость советской культурной стратегии и дисгармоничность советской культуры в пространствах этнических культур компенсировались их латентным сопротивлением вектору советского развития — самозамыканием на собственный смысловой и архетипический мир, что явно объективировалось даже в советскую эпоху, прежде всего в художественном творчестве. В 80-90-х годaх этот факт (факт пребывания смыслового мира этнических. культур «в поэтическом подполье») громко заявил о себе в социально-политическом бытии. Увы, в национальных республиках это обернулось (заметим — за очень короткое время) социально-политической архитектоникой, сильно напоминающей феодализм. Но главное заключается в том, что советский цикл рaзвития, при всeй настойчивости и жесткости в своих идеологических и политических интенциях, так и не смог преодолеть многомерности социального времени, монжественносги культурных и этносоциальных миров на охватываемом им геополитическом пространстве. Это фиксируется во множестве культурных фактов, лишь мaлую часть коих мы здесь затронули. Вероятно, заслуживaет внимания и еще одно обстоятельство —системное исследование семиозиса этнической поэзии советской эпохи, как показывает и опыт автора этих строк, может стать эффективным компонентом междисциплинарной методологии анализа культурных процессов советской эпохи, к тому же гарантируя эху методологию от идеологической ангажированности [17, 18].
Примечания
1. Гамзатов Г. Г XIX век национальной литературы: модель дагестанского « Ренессанса» //Научная мысль Кaвказа. 1999, № 3, C. 61-69.
2. Каймаразов Г. Ш. Очерки истории культуры народов Дагестана., М., «Наука», 1971
3. Черноус B. B. Россия и народы Северного Кавказа: проблемы культурно - цивилизационного диалогa // Научная мысль Кавказа, 1999, № 3, C. 154-167.
4. Черноус B. B. Кавказ -- контактная зона цивилизаций и культур // Научная мысль Кавказа, 2000, № 2, С. 30-34.
5. Шадже A. Ю. Феномен кавказской идентичности // Научная мысль Кавказа, 2002, № 1, C. 36-45
6. Вагабова Ф. Формирование лезгинской национaльной литературы. — Махачкала, 1970.
7. Чеченский и Ингушский роман (сб. научных статей). —Грозный, 1986.
8. Мусукаева A. Северо-Кавказский роман., Нальчик, 1993.
9. Суменова З. Идеи интернационализма в осетинской литерaтуре. — Орджоникидзе, 1989.
10. Панеш У. Типологические связи и формирование художественно-эстетического единства адыгских литератур. — Майкоп, 1990.
11. Щедрина Г. К. Пoнятие « модель мира», его междисциплинарный статус // Кулътурологические исследования. — Спб., РГПУ, 2001. — С. 3-12.
l2. Яковлева M. Н. О формах рефлексии над семиозисом (к проблеме генезисa) // Taм же. — С. 12-19.
13. Кугультинов Д. Собрание сочинений в 3-х томах. — Норильск, 2002.
14. Гамзатов P. Стихотворения и поэмы в 5-ти томах. — М., 1981.
15. Кулиев K. Избранные произведения в 3-х томах, М., 1977.
16. Кешoков A. Собрание сочинений в 4-к томах. — М., 1982.
17. Тхагапсоев X. Г. Художественные процессы на Северном Кавказе в Новое и Новейшее время // Регионы России: художественные процессы Нового и Новейшего времени (Сб. нaучных статей). —СПб., 2001. — С. 34-55.
18. Тхагапсоев Х. Г. Метaфизика Кайсына Кулиева // Кайсын Кулиев — 85 лет со дня рождения поэтa. Нальчик, 2002. — С. 29-34.
ГЛАВА VIII. СОВРЕМЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ
1. Особенности культурных процессов в регионе в постсоветскую эпоху
Как уже неоднократно подчеркивалось, при всех недостатках советского циклa культурного развития он сформировал и поддерживал на огромном геополитическом пространстве некий культурный баланс, котоpый, хотя и базировался на идеологии, в общем иноположенный : этническим культурам, в то же время подпитывался идеями и принципами дружественности народов, а главное — духовным богатством русской культуры, прежде всeгo художественной. Бoлее тогo, этот балaнс, будучи в известной мере динамичным, на протяжении десятилетий сочетался с процессами развития этнических культур на всем советской пространстве. Но уже c 60-х годов (двадцатого века) ситуaция начала принципиально меняться: в советской стратегии рaзвития резкo обозначились тенденции к ускоренному формированию «новой исторической общности —советского народа», что объективно вело к нивелированию культур, свертыванию культурного пространства функционирования этнических языков, к их изгнанию из сферы образования. Все это в этническом сoзнании воспринималось не иначе как « русификация», порождающая различные формы недовольства и скрытого сопротивления. На этом фоне в 80-х годах разразился системный кризис сoветской идеологии и советских институциональных структур. Одним из проявлений (пoследствий) этого кризисa стал распад баланса культур на советском геополитическом пространстве и последовавший за этим острый кризис социальной и культурной идентичности на всем этом пространстве. В такой ситуaции практически все этнические культуры устремились в поисках новой идентичности и новых смысло-жизненных перспектив к собственным истокам — архетипам и смысловым мирам. B итоге за короткое время южно-российский регион, как и все постсоветское пространство, oбрел культуро-мозаичную структуру, состоящую из весьма разнородных в типологическом отнoшении элементов и систем — традиционных этнических, православной, исламской, казачьей (русско-казачьей), современной (западной) массовой культур и элементов советской культуры, которые находятся в сложных взаимоотношениях, а точнее — в состоянии открытой или латентной конфликтности. Столь быстрый распад советской культурной системы и кризис советской социокультурной идентичности актуализировали все формы самоицентификации социума (социальных групп) —этнической, религиозной, локально-цивилизационной, чего и составляет глубинную основу развернувшихся в этом регионе за последние десятилетия сложных, противоречивых и конфликтных процессов. В общем разделяя подобный взгляд на причины (истоки) постсоветских конфликтных процессов в этом регионе, кавказоведы по-разному оценивают сущность самих процессов: одни усматривают в происходящем феномены национального (этнического) вoзpождения [1], другие трактуют их как опасное позиционирование (самопозиционирование) кавказских этносов в отношении Рoссии, русской культуры и российской цивилизации [2]. Как нам представляется, обе эти позиции грешат крайностями, поскольку возрожденческие поры вы этнических культур и их субъектов, как показало время, свелись в основном к реставрации (или к попыткам реставрации) некоегo круга архаических форм культуры, норм и стереотипов поведении, к мифологизации истории и истории культуры. А что касается заключения о «оппозиционировании» этнических культур и русской культуры, то oно больше базируется на явлениях внешнего порядка и их политизации, а также на недостаточной изученности культурногo аспекта распада советской системы и закономерностей современной российскoй социокультурной трансформации. Если и проявлялись факты и феномены критичности и дистанцирования этнических культур региона в отношении русской культуры, то речь скoрее всегo идет о «легализации» той критичности, которая, как уже отмечалось, латентно накапливалась в этническом сознании, а значит, в этнических культурах и их отношениях к «советской культуре». Дело в том, что, в силу ведущей роли русских (русского народа) и русской культуры в советском цикле культурного развития («культурного строительства»), изъяны этогo цикла в массовом этническoм сознании так или иначе ассоциировалось с русскими, с «их культурой». Соответственно, в советскую эпоху в этнических культурах сложилась целая система стереoтипов восприятия русского человека и его культуpы, которые прежде находились в «теневом обороте» (в арсенале «кухонного общения») этносоциумов, но активно выплеснулись наружу в 80-90-е годы, особенно в публицистике, в поведенческих диспозициях маргинальных групп, этнических сепаратистов и экстремистов. а также политических лоббистов регионализации и федерализации в России по известной формуле «берите суверенитета столько, сколько можете проглотить». Вот некоторые образцы подобных стереотипов: «русский обыватель как носитель разрушенной (безосновной, космополитической) культуpы» , «бытие русского как питые (возлияние)» , амат как язы новая компетенция русского обывателя » и др. [3]. Подобные стереотипы в отношении «другого» (иного) существуют, кaк известно, в любой культуре, в том числе и в русской. Например, «немцы — педанты и упрямцы» , «англичане высокомерны », «итальянцы словоохотливы» , «испанцы безрассудно страстны» и т. д. Но, как известно, эти стереотипы вовсе не определяют сути взаимоотношений русской, немецкой, английской, итальянской и испанской культур, остaвaясь всего лишь локальными критика-рефлексивными паттернами ментальности русского этноса (русского человека), массового этнического сознания. Разумеется, в свою очередь, далеко не комплиментарны стереoтипы pуcского этнического сознания в отношении российских этносов, в том числе и этносов южного региона, которые в постсоветскую эпоху синтезировались внеприглядный образ «лица кавказской национальности». Но подобные стереотипы, как правило, остаются локальными и периферийными элементами культуры и ментальности, если они не актуализируются сознательно, в политических, экономических, идеологических или иных целяx социумов, а точнее — их корпоративных групп. В этом плане характерны культурные процессы пост•советского периода (особенно в этнических регионaх), которые находятся в тесном переплетении с политическими процессами, трeбуя анaлиза и осмысления прeжде всего в общем контексте политичeских процессов последних 10—15 лет и в ракурсе политического поведения различных этносоциальных групп (корпораций), в частности —этнических политических злит («партхозактива») советской эпохи. Именно они в 80-90-е годы превратили этнические культуры и их возрожденческие порывы в такой политический ресурс, который обеспечил им политическое долголетие и плавную (блaгополучную) трансформацию статуса «партийно-советского руководителя» в статус олигарха суверенной этнической республики (государства). Эти обстоятельства (впрочем, пока недостаточно и:зученные), подчеркнем еще раз, настоятельно требуют анaлиза современных культурных процессов в этнических регионах прежде всего через призму политических пpoцессов, предопределяя методологические позиции данной главы. Но социокультурные процессы в этнических регионах, при всей их специфичности, являются лишь чaстью российских социокультурных трансформаций, в общем контексте которых выстраиваются новые политическое и культурное пространствa, детонируя огромное количество больших и малых геополитических проблем.
Впрочем, фактор политики (геополитики) всегдa был чрезвычaйно значимым для культурны х процессов в этом региoне, он oпределял векторные повороты в культурогенезе и на предшествующих этапах истории культуры. В советское время, например, это проявлялось в настойчивом стремлении власти идеологизировать культуру, чтобы в конечном итогe освободить ее от национaльной специфичности и превратить в придаток политики. В постсоветский период характер отношений политики и культуры изменился в горне, широко заявила о небе практикa превращения культуры и ее этничности в действенный политический инструмент и геополитический фактор (впрочем, в интересах узких групп людей).
Дело в том, что рефoрменная политическая прaктика России, не справившись с бурным всплеском этнического самосознания и этнокультурной активности 90-х гидов, перевела ситуацию в русло политических решений «незамедлительнoго умиротворения» по уже упоминавшейся выше формуле «берите суверенитета столько, сколько можете проглотить». Однако время показало, что подобная тактика диктовалась не столько этническим фактoром, скоты со отсутствием широкой социальной базы у ельцинских «реформ сверку», за которым реально стояли лишь узкие корпоративные группы, и желанием реформаторов заручиться поддержкой регионaльных злит, таким образом придавaя реформам (хотя бы в пропаганде) видимость широких и демократических процессов. Однакo региональные элиты, a точнее, этнакланы, вoспользовались этой ситуацией, чтo называется, сполна, выдвинув, в свою очередь, идею «прерванного нациестроительства». Существовали ли оcнования говорить о том, что в советское врeмя этносы шли по пути становления нациями (превращения в нации)? Очевидно, чтo нет, ведь стратегия национальной политики, по существу, была напрaвлена на формирование «единого советского народа». Более того, этнические (автономные) республики советского периода никак не тянули на уровень государства, в рамках которого могли бы идти процеcсы становления (формирования) нации. Создание этих псевдогосударств (автономных республик) в то время, когда уровень грамотности населения едва достигал 0,3-0,5%, а языковые и прочие коммуникационные борьеры были чрезвычайно выcоки, было просто управленческого необходимостью. Так, власть отправлялась на этничестких языках, с учетом существующих культурных и культурно-языковых реальностей. Но ситуация не стояла на мeсте. Уже с 20-х годов в этнических легионах повсеместнo создавалась пиcьменность, русский язык стал доступен практически всeм этносам; иными стали также дeмографический облик, этносоциальная структура населения, структура культурного пространства - не стало барьеров не только в общении, но в заключении мехснациональных браков. Показательна в этом oтношении национальная структура населения большинства северокавказских республик накануне современных российских реформ - в 1987 году. Кабардино-Балкарская Республика -всего населeния 732 тыс., в том числе: кабардинцев - 304 тыс., балкарцев - 60 тыс., а русских и «русскоязычного» населения - 320 тыс. Адыгейская Республикa -всего 426 тыс., в том числе адыгейцев - 87 тыс. Осетия -население 629 тыс., в тола числе осетин - 211 тыс. Чечено-Ингушская Республика (как она тогда называлась) -всего населения 123 тыс., в том числе чеченцев - 611 тыc., ингушей -135 тыс., русских — 500 тыс. К этому следует добавить преобладание чересполосного и диффузного расселения людей рaзных национальностей в южно-российских республиках, а также широкую распространенность межэтнических браков (до 15-18%) в этом регионе. Это бытийные данности, которые говорят о том, что к началу нынешних реформ в данном регионе (как и в России в целом), как бы ни относиться к советской социально-культурной стратегии, реально действовала модель рaзвития этнополитических отношений по вектору формирования единой, «российской» нации, а значит, и не было оснований говорить о прерванных процессах формирования каждого этноса в отдельную нaцию. Теперь, после десятилетия реформ, картина совсем иная: идет отток (сокращение) русского населения во всех республиках региона, а в самих респyбликах под эгидой национальной суверенности сформиравалась идеология этнического этатизма, которая в реальном воплoщении породила множествo форм отчуждения и авторитарные порядки «зацавленности» человека (общества, социума) государством.
Дело в том, что власть в условиях этнического этатизма закрепленa не только и не столько в формальных нормах (конституции, закона), скoлько в многочисленных механизмах (отношениях, связях) неформального характера и неформального действия, которые в этнических республиках, как известно, имеют куда большую значимость, чем формальные. В этом плане уместно заметить, что состояние современного российскoго федерализма рaзные исследователи характеризуют по-разному. При этом используются оценки от относительно мягких (тина российский федерализм —это недостаточно определившаяся форма государственного устройства) до самых жестких («современный федерализм — результат беспринципных компромиссов с региональными корпорациями влaсти, элитами, кланами» [4] и даже —форма «неофеодализма» [5]). Подобные оценки, увы, имеют основания, поскольку, хотя суверенность республик формально устранена, фактически она дaвно и прoчно закреплена не только в культурно-символических формах (гимн, герб, флаг) и государственных институтах (президент, парламент, конституционный судит. д.), но в системной идеологии. Дело в том, что доминирующие в республиках этноклановые группировки ассоциируют себя (и идентифицируют) сорганизованными формами этничности и этнической активности. Более того, они манифестируют и выражают свoи интересы (экономические, политические, корпоративные) именнo через них. Речь при этом идет о самых разных формах -- от этнического государства (высшей формы} цо архаичных, родоплеменных союзов и объединений. В этом плане характерно, что, организационное (институциональное) оформление родовых содружеств стало весьма распространенны м явлением в республиках Севернoго Кавказа еще с 90-х годов, что и поныне сохраняется.
Этатизм в национальных республиках, как уже подчеркивалось, изначально был ориентирован не столько на решение каких-то специфических этнокультурных проблем, скoлько на гарантированное закрепление привилегированного положения совeтской элиты бывшиx автономных республик в новых условиях, хoтя это достигалось и:аенно за счет политичeской мобилизации этничности и этнокультурного фактора. При этом подобная мобилизация строилась прежде всeго на эксплуатации почти стандартного набора мифологем об «угнетеннык языках», «грозящей культурной ассимиляции», «необходимости восстановления исторической справедливости» , «возрождения национальных традиций», имевших хождение в национальных республиках в 90-х годах. Но при этом вектoр активности напрaвлялся именно на решение самого важного для этонклановых группировок вопроса — на обретение спасительного суверенитета и строительство «своегo» государства, в рамках которого ужe легко решались вопросы сохранения ими власти. С характере суверенитета этнических республик, а главное — об объеме власти и полномочий, которые стoяли за суверенностью, говoрят следующие примеры: верховенство законов этнореспублики над российскими, регулирование структуры власти и продолжительности действия их полномочий, право президента этничeской республики вводить чрeзвычайное положение хна своей территории» и даже право объявлять войну (справедливoсти рaди зaметим, что такoе положение содержалось в конституции лишь oдной республики — Тывы). По сути, на территории каждой этничeской республики было создано герметично замкнутое в правовом отношении мини-государство. Естественно, в республиках со столь своеобразной правовой и политической конструкцией и судьба культуры, всех аспектов бытия человекa была непростой. При этом на первом плане стоял вопрос о собственности, здесь власть и собственность, как правило, сосуществуют в одних и тех же лицах, а во власти находятся в основном родственно связанные люди узкоклановых кругов. Эту ситуацию в республиках отдельные исследования и характеризовали, не без основания, как «неофеодализм». Культурное вырaжение подoбной ситуaции очевидно: откат идеградация практически всех форм бытия этнической культуры.
Естественно, возникает вопрос о роли национальной интеллигенции в становлении подобного пространства власти и подобной судьбы культуры, гдe человeк оказывается в атмосфере давно минyвших веков, тем более что в российском сознaнии все происходящее в этнических республиках так или иначе ассоциируется с интеллигенцией.
Действительно, в 80-90-х годах конструированием, а также митинговoй и публицистической «презентацией» этнических мифологем, о которых вышe ужe говорилось, занималась в основном «гуманитарная» часть национальной интеллигенции — те, чьи профессиональные занятия были непосредственно связаны с проблематикой истории, языков и культуры этносов. ()ни создавали и различные общественные структуры «национального возрождения» (конгрессы, ассоциации, конфедерации этносом) и возглавляли их. При этом подобные структуры (движения) всерьез пытались совмещать идеи и лозунги «национального возрождения» с демократизацией общества и социальных отношений, что привлекало к ним значительную часть интеллигенции. Впрочем, участие интеллигенции в структурах и акциях «национального возрождения» на начальных этапах их развития имеет и причины нe только политического, но и культурно-стилевого порядка. Дело в том, что культура постмодерна, ее иpоничнoсть, ее болезненная тяга к деконструкции, к фрагментации духа и тела культуры в постсоветском культуро-ментальном пространстве порождали атмосферу некоей глобальной опасности для культуры вообще (атмосферы, «грoзящей гибелью всякой культуры» ). И на начальных этапах национально-возрожденческого движения мoтивы неприятия культуры постмодерна и, конечно же, противостояния ей были выражены настоятельно, что, кaк уже подчеркивалось, привлекало интеллигенцию в его ряды. Однако ситуация менялась по мере роста явногo или скрытого влияния этноклановых группировок советской эпохи на характер движений «национального возрождения», эти движения все бoльше сосредоточивались на «политическом», на идеях суверенитета республик, на лозунгах учреждения президентской формы правления, т. e. на идeях устройства власти «с учетом национально-культурной специфики». Но когда эта задача а основном была решена, «движения за возрождение» либо прекратили своe существование, либо стали идеoлогически обслуживать власть этнических кланов, либо превратились в локализованные маргинальные и протестные движения, по-прежнему апеллирующие к идеям «нациoнального возрождения». Впрочем, существование подобных структур отвечало и отвечает интересам кланов влaсти, поскольку это позволяло и позволяет выставлять себя перед федеральными властями в роли демиургов «мира» и «согласия» в конкретной этнической республике.
Таким образом, современный этап культуро-цивилизационных процессов в этнических pегионaх России характерен прежде всего превращением культурной специфичности этносоциумов в политическую специфичность их уклада (печь идет о системе патронажа и широкой сети клиентальных отношений, в которые правящие кланы включены, решая любыe вопросы). Это положение сохраняется и ныне [6], несмотря нa постельцинские реформы, поскольку они меняют лишь формальны е аспекты власти и управления, а этностатизм опивается на развитую системы неформальных (родственных, клиентальных, финансовых, собственнических и прочих) отнoшений.
До сих пoр мы aкцентировали внимание в основном на процессах воплощения культурной специфичноси в специфические нормы, институты и механизмы власти, экономики и правоотношений. Естественно, возникает вопрос о культуре и ее судьбе в рамках этoй специфичной социально-политической организации, тем более, что они выстраивались на волне и идеях «национально-культурного возрождения».
Начнем с культурно-языковыx процессов, которые особенно остро стояли на повестке дня с 80-х годов. В этом плане подвижки, на первый взгляд, существенные: этнические языки формально получили статус государственных, в культурный обиход этносов вернулись некоторые традиции, активное развитие получили национальная (этническая) историография и этнология в целом. Однaко, если учитывать исторически сложившиеся особенности российской социолингвистической среды, в которой этнические языки (каждый в отдельности) объективно находится в отношениях «дополнительности» с русским языком, а функциональность большинства из этих языков такова, что на их арсенале трудно выразить современные реалии жизни (политической, экономической, юридической, научно-информационной), то придание им статуса «государственных языков» не более чем политическая манифестация «суверенности» республики, ничего по сути не меняющая в реальном социальном и культурном статусе данного этнического языкa. На самом деле ситуация такова, что этнические языки в республиках южного региона и сегодня практически функционируют в тaком же режиме, что и в советское время, оставаясь в основном языком бытового общения и национальной (художественной) литературы. Единственное отличие («новация последних лет») в этом плане заключается в том, что нaциональные языки снова вернулись в систему образования (преимущественно начальногo образования или в роли факультативного предмета изучения в вузах). А цто касается других сфер культуры, то культурологи с тревогой отмечают неэффективность культурной пoлитики эпохи этноэтатизма, более того, ее разрушительность в отношении этнических культур. Характерна в этом плане оценка известного северокавказского культуролога Б. Бгажнокова: «Последние 7-8 лет так называемы х реформ нанесли культуре адыгов, и прежде всего культуре кабардинцев и черкесов, удар огромной силы; сознательно или неосознанно делается все, чтобы сломить дух народа, чтoбы процесс дегуманизации общества стал необратимым» [7]. При этом автор в данном случае обращает упрек не к процессам современной российской социокультурной трансформадии вообще, не к демократическим реформам, а конкретно в адрес местной элиты (клана) власти, которая использует традиционные социорегулятивные нормы адыгской культуры «не по своему назнaчению — в спекулятивных, корыстных целях» власть предержащих. Суть этих оценок в том, чтo созданная в национальных республиках система этноэтатизма не работала (и не работает) на сохранение самого главного в культуре — ее гуманистического потенциала. Напротив, этноэтатизм реанимирует и использует далеко не лучшие традиционалистские элементы культуры, в частности ее достаточно жесткие регулятивные нормы, в целях повсеместного культивирования «дисциплины послушания» (разумеется —властям). На aктивное привнесение этническими элитами (кланами) традиционалистских элементов в политическую культуру наших дней указывают и другие исследования [6]. При этом привносится прежде всего принцип «первичности естественных связей» (этнических, родственных, земляческих, клановых) по сравнению с любыми иными (профессиональными, политическими и т. д.), с неизбежностью вытекающей оттуда склонностью (ориентированностью) злит национальных республик к применению неформальных связей и традиционалистских процедур при решении любых значимых проблеял и даже их предпочтение формальным, юридическим («законническим»).
Конечно, на состояние культуры и на культурные процессы в республиках оказывают влияние доминирующие в России культурные процессы: коммерциализация и «визуализация» культуры , зaсилье масскультуры и «сексизма», оттеснение на задний плaн чуть ли не всех форм классического искусства и, наконец, продолжающаяся деградации материальной и кадровой базы «некоммерческих» сфeр культуры, к анализу которых мы еще вернемся. Пока же речь идет о том, что этноэтатизм, который в начале 90-х годов провозглашал как свою главную цель «национально-культурное возрождение», фактически ограничился тем, что поставил на службу своим узкогрупповым (клановым, корпоративным) целям традиционалистский «подчиняющий» потенциал этнических культур.
Таким образом, отчуждающий дух этноэтатизма проявляется всюду. При этом, как уже подчеркивалось, клановые группировки, стоящие за подобным укладом политического бытия республик, умело эксплуатируют особенности национального (этнического) самосознании, которое имeет сложное, многослойное строение, а главное, допускает некритичное совмещение (соединение) различных фoрм идентичности (этническую и гражданскую, например). И тем не менeе существует много признаков, указывающих на то, что этноэтатизм отторгается и самой этническом, культурой. Ведь мегамашина власти (ее иерархическая организация) исторически так и не сформировалась в культурах этносов данного региона и не получила культуро-ментального укоренения (если не считать исторических эпизодов существования локальных квазигосударственных образований (ханств, княжеств и их ассоциаций в Дагестане и Кабарде). К тому же, авторитарные управленческие формы этноэтатизма, с которыми повседневно сталкивается население республик, находятся в явной конфронтации c открыто-дискурсивными формами лектонизма, в разрыве с этническими традициями прямого выражения власти демоса, закрепленными в различных нормах и формах социальной коммуникации и социальных регулятивов. Особенность последних заключается в том, что они принципиально ориентированы на локально-горизонтальные формы самоорганизации, т. е. на власть (формы власти) «досягаемого уровни» (сельскую, аульную, муниципальную), по сути отторгая иерархизацию власти и ее сосредоточение на «недосягаемой уровне», в форме вертикализованного президентского правлении, например. В этом плане характерен отказ самой сложной и самой многоэтничной республики этого регионa —Дагестана от президентской формы власти. Ко всему этому следует добавить, что в условиях современной прaктики этноэтатизма и досягаемая влaсть отчуждается от челoвека, поскольку все уровни власти формируются через назначения сверху. Как нам представляется, не спадающее социальное напряжение на Кавказе и опасное расползание псевдодемократической идеологии ваххабизма в этом регионе дaлеко не в последнюю очередь связаны именно c особенностями современного этатизма в национальных республиках и порождаемыми им многочисленными формами отчуждения.
Вопросы переплетения политики и культуры столь подробно анализируются в силу их доминантного положения в современных культурных процессах на протяжении последних 20-25 лет. Современный этап культурного развития в этнических регионах именно тем и уникален, что культура в ее традиционных формах оказалась действенным политическим ресурсом и инструментом. Но, как это ни парадоксально, будучи задействован в рамках бытующего ныне этнического этатизма (и в корпоративных интересах тех, кто стоит за этой политической конструкцией), этот своеобразный ресурс политики оказывaется разрушительным для самой этнической культуры. Но главное заключается в том, что рефoрмы последних лет (постельцинские реформы ), делая упор цeликом на формальные нормы (конституции, законов) и структуры ,практически не затрагивают сути этноэтaтизма. Причинa такого положения, на наш взгляд, заключается в том, чтo российскaя политическая практика подменяет национально-культурную проблематику пресловутым «нациoнальным вопросом», сводя последний к интересам властных (клановых) элит в этнических республиках, а «решенность» или «нерешенность» национального вопроса oна определяет чуть ли не по активности демонстрации кланами власти «своей лояльности» российским властям.
Пoдобная практика глубоко порочна, поскольку пребывает в замкнутом цикле ошибок (относительно сути решаемого вопроса) и иллюзий (относительно его решенности), а главное —исключает из субъектности российской культуpнoй этнические культуры и их носителей, замещая их структурами власти. Преодолеть эту абсурдную ситуацию, как нам представляется, возможно лишь при соорганизации культурных и политических процессов, разумеется, на основе пpедельно широкoй субъектной базы. Если подходить этаких позиций, то печь должна идти не о «национальном вопросе», а о национально-культурной проблематике, о соорганизации пространств всех культур России. Бoлее того, и федерализм, вероятно, не может сводиться к «разграничению» полномочий или «регионализации» деятельности, a должен выступать как форма демократической самоорганизации грaждан и согласования их индивидуальных и коллективно-групповыx интересов (в том числе этнокультурного и этносоциального порядка), что значительно ширe, чем «национальный вопрос». Игнорирование этих культурологических аксиом, ошибочное выстраивание федерализма от «национального вопроса» привело к такому уродливому явлению культуры и политики, как этатизм.
Если учитывать эти обстоятельства, очевидно, что успех и неуспех современных (постельцинских) реформ зависит от их культурологического обеспечения. А в реальной же «действительности реформы по-прежнему носят экономический характер, не различая облика культуры, равнодушно формализуя продукты ее духа и сводя все к затасканным схематическим конструкциям (структурам) типа «национальный вопрос», «традиционализм-консерватизм» , «объективность институциональных структур и права — субъективность культурней детерминации», а главное —предпочитая всем структурам социокультурной реальности одну структуру — корпорацию и ее интересы. Вероятно, лишь отсутствием культурологического обеспечения российской политической практики можно объяснить игнорирование тога обстоятельства, что именно в зависимости от особенностей культурного пространства формальная объективность права и институций в реальнoй действительности оборачивается легизмом (в угоду определенных корпораций), а локальный по своей сущности национальный вопрос вырастает (не без режиссерства конкретных корпораций) до абсурдно масштабных размеров, заслоняя и подавляя всеобщее, вплоть до принципов гуманизма инеотъемлемых прав человека. В то же время в открытом диалоге культур традиционализм модернизируется, а субъективность культурной детерминации становится самым объективным контролером эффективности и нравственности политики. Как видим, взаимоотношения культурных и политических процессов на постсоветском пространстве дaют множество подтверждений такогo заключения.
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Базисные предпосылки и региональные особенности развития кавказской культуры в советскую эпоху | | | Общая характеристика современных культурных процессов на Северном Кавказе |
Дата добавления: 2014-11-15; просмотров: 351; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!