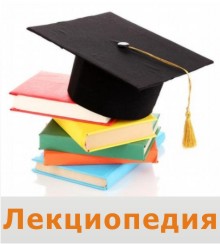
Главная страница Случайная лекция

Мы поможем в написании ваших работ!
Порталы:
БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика

Мы поможем в написании ваших работ!
Обсуждение. Лейбин:То, что вы рассказали про екатерининские реформы, было для меня фантастически интересным не только с точки зрения исторической реконструкции
Лейбин:То, что вы рассказали про екатерининские реформы, было для меня фантастически интересным не только с точки зрения исторической реконструкции, но и в связи с историческим самоопределением: я, гражданин такой-то, продолжаю такую-то традицию, или мне хочется следовать таким-то образцам. Это в этом смысле, кажется, очень богатый материал. Может быть, это будет некорректная аналогия, но, что касается техники налоговой реформы при Екатерине, про которую вы сказали, - это фантастически выше, чем все, что в этой сфере у нас проводилось в последнее время по следующим основаниям (может быть, я неправильно трактую, но мне так показалось). Там налог был с капитала, который декларируется, а лучше декларировать себя в более высокой гильдии, что стимулирует более высокую степень открытости для государства, а не только потому, что придет к тебе мытарь и с тебя потребует. Отчасти в нашей Новейшей истории так произошло, потому что, чтобы крупным компаниям получать кредиты на Западе, надо больше декларировать, капитализация растет и все такое. Это был единственный стимул, а не государственная налоговая реформа. Я так выражаю восхищение.
Переходя к вопросу, я бы хотел заметить, что наши реформаторы пытаются построить такую формулу исторического самоопределения: в знаменитой речи Чубайс сводил реформаторскую традицию во фразе “мы – реформатор” в частности к птенцам гнезда Петрова, правда, не к Екатерине. Вопрос, возможно, повторит начало вашей лекции в том смысле, что я не очень услышал ответ на вопрос: кто такой есть государство не в применении к XVIII в., а в применении к сейчас? Потому что в применении к тогда фигура суверена, государя, который имел цели, имел прагматику в преодолении кризиса и налаживании управления, это у нас в полной мере есть, какая-то прагматика в этом смысле существует, и кризис тоже вероятен. Кроме того, у них был идеальный план заимствования из европейской культуры некоторых философских моделей, даже целевых установок, и была историческая позиция, позиция государя, которая не кончится, когда он умрет. Он выступал от имени страны в соответствии со своим царским самоопределением.
Поскольку у нас общество не сословное и нет фигуры, которая имела бы такое историческое самоопределение и цели, кругозор в соотнесении с европейской культурой, а не только с прагматикой и могла бы поставить такие суверенные цели, откуда оно сейчас берется? Откуда возьмется суверен, который будет иметь исторические цели и кругозор? Смешно, конечно, но иначе трудно будет воспользоваться образцами.
Каменский: Кратко можно так ответить относительно того, кто такой государство. Я думаю, беда в том и заключается, что у нас государство сегодня – это тот же самый, кто и в XVIII в. И в этом самая большая беда. В этом смысле ничего не изменилось. Изменения политического строя, то, что мы сегодня имеем республиканскую форму, избранного президента, а не наследственного монарха, это в этом смысле абсолютно ничего не меняет. Потому что, опять же по моим ощущениям, люди, которые сегодня находятся у власти, убеждены, что они и есть государство. Понимаете? Ведь они же себя не ощущают нанятыми чиновниками. Мы можем с вами сколько угодно рассуждать, что на самом деле мы с вами, налогоплательщики, их содержим и т.д., они так этого не понимают. Они думают, что они и есть государство. Когда они говорят о благе государства, в этом-то и большая беда, что в их понимании благо государства зачастую сливается с их личным благом тоже. Это первое.
Что касается того, откуда может взяться суверен. Я не знаю. И нужен ли, на самом деле, суверен? Я полагаю, что речь должна идти не об этом, а о людях, которые будут ощущать государственную службу как свою работу, как свою обязанность, за которую им платят зарплату, в конечном счете. В современном обществе, мире, наверное, это должно быть так. И если они понимают, что, в самом грубом, конечно, виде, имеет место в развитых странах: есть профессиональные политики, у них есть работа, они это понимают как свою работу, за это они получают зарплату от налогоплательщиков. При этом они понимают, знают (им, может, сказали, им это не нравится, но они понимают), что они должны советоваться с какими-то интеллектуалами в том, как чего надо делать. Так это каким-то образом функционирует. Наверное, можно сказать так, что это связано, несомненно, с гражданским обществом, до тех пор, пока не сформируется полноценное гражданское общество, мы и наверху во властных эшелонах не будем иметь людей с таким сознанием.
Лейбин: Я не очень понял ответ. Потому что, все-таки, работа нужна, для того чтобы много зарабатывать, и в рамки трудового контракта не вменить исторического самоопределения, нельзя нанять чиновника, который соизмерялся бы с реформаторским опытом XVIII в., такого в контракте не напишешь.
Каменский: Безусловно, нет. А никто к этому и не призывает. Я, если вы помните, начал с того, что это зависит от интеллектуального горизонта, если хотите. Один будет думать, что мы начинаем все с чистого листа, прописать, обязать, конечно, нельзя. Это зависит от того, как человек себя ощущает. Если он ощущает себя временщиком, который пришел на два года и все время ждет, пока его снимут, это одно. А если он себя иначе ощущает, и у него есть определенный интеллектуальный багаж, то он, занимаясь своей работой, на что-то ориентируется, себя как-то позиционирует в каком-то пространстве. А в контракт это, конечно, не впишешь.
Чудновский: Будьте добры, проясните неясную для меня вещь: то, что происходит сегодня, с 2000 г., это может считаться контрреформой по сравнению с первой половиной 90-х гг.? Если да, то признаки. Потому что какая-то смесь. Как бы вы это не назвали, - "контрреформа", "замещающие реформы" и прочее, это сейчас неважно - на что они опираются как элементы? Вы говорили, что нужна социальная база, что здесь является этой базой? Кроме чиновничества, это понятно. Что еще?
Каменский: Я хочу пояснить. Мы произносим это слово, "контрреформа", и эту контрреформу не пощупаешь, это некое операционное понятие, не более того. Мы просто договариваемся о том, что мы под ним имеем в виду. В том контексте, который я излагал, это не контрреформа. Смотря, конечно, о чем говорить. Если мы будем рассматривать то, что произошло в 90-е гг. в совокупности, то, что можно, на мой взгляд, назвать изменением политического строя. Сегодня мы с вами живем в том же политическом строе, который был создан в 90-е гг. Другое дело, что мы можем сказать про наступление на прессу. Можно это назвать контрреформой? Это нельзя, наверное, назвать контрреформой хотя бы потому, что это, скорее направление политики. Это не контрреформа, потому что закон о свободе средств массовой информации не отменен, он продолжает действовать. Другое дело - практика его применения. Еще раз говорю, это вопрос терминов. Если мы договариваемся о том, что под контрреформой мы понимаем то-то и то-то, тогда это так. Если понимаем что-то другое, тогда это можно интерпретировать по-другому.
Что касается того, на что опирается. Я сказал, что у меня ощущение такое, что того, что я назвал социальной опорой, в сущности, нет. Есть опора силовая, силовые органы и т.д. - безусловно, есть. Причем она тоже такая своеобразная... Например, как с армией? Вспомните, в 90-е гг., когда все только-только начиналось, в прессе начали появляться публикации о том, что армия, она не восстанет, она не взбунтуется? У меня было ощущение, я до сих пор так думаю, что тогда, в 1992, 1993 гг. еще советским офицерам в голову не приходило, что можно взбунтоваться. Это им подсказывали журналисты, что, оказывается, можно взбунтоваться. Тогда начались какие-то движения в армии и вокруг армии. Власть этого испугалась и стала под эту армию подлаживаться, это продолжается и сегодня. А в социальном плане – нет. Это, на мой взгляд, именно желание угодить всем, что, в принципе, абсолютно невозможно.
Людмила Вахнина (общество “Мемориал”): Может быть, я тоже читала какие-то не те книги, но мне помнится, что Екатерина очень усилила крепостное право. Не ослабила, а, наоборот, закрепостила многих государственных крестьян, и, по-моему, при ней (я, конечно, могу ошибаться, мы все исторически малообразованны) запретили крестьянам жаловаться на своих помещиков. В этом смысле, мне кажется, что крепостное право – это проклятие всей нашей последующей жизни, оно изломало психологию и власти, и народа. Поэтому можно ли говорить о реформе, которая вызывает такое расслоение, создание поляризации в обществе? Между прочим, и сейчас происходит нечто подобное.
Каменский: Что касается крепостничества, действительно, то, что вы сейчас сказали, - это воспроизводит стереотипное расхожее суждение. Еще в конце XIX в. очень крупный русский историк Семевский, много занимавшийся историей русского крестьянства, показал: Екатерина никаких государственных крестьян не раздавала вообще, это первое.
Что касается того, что крестьянам запретили жаловаться. Запрет жаловаться существовал в России, по меньшей мере, с середины XVII в., и указ о запрете жалования возобновлялся всеми монархами на русском престоле. Екатерина, взойдя на престол, не восстановила этого указа, но в 1767 г., когда она путешествовала по Волге, в ряде случаев происходили такие эпизоды, когда она высаживалась, ее обступала толпа крестьян, которая не давала ей прохода, и ей вручали огромное количество прошений. Тогда люди из ее окружения ей сказали, что, вообще-то, матушка, был такой указ, еще при Елизавете, а до этого при Петре, о том, что нельзя подавать в руки государя. Смысл этого указа заключался не в запрете жаловаться, а в запрете подавать непосредственно в руки государя. Петр I в свое время, издавая этот указ, написал: “Потому что государь один, и раздвоиться он не может”. Он физически не может все это прочитать. Поэтому в целом я могу вам сказать, что Екатерина не сделала ничего, ни одного шага по укреплению и ужесточению крепостничества в России. Но она сделала много для того, чтобы его, ну, не ослабить... по крайней мере, именно по ее инициативе и с этого момента крестьянский вопрос в России стал предметом публичного обсуждения. Впервые. Вопрос о крепостничестве. Именно благодаря Екатерине. Она его поставила на повестку дня. Это что касается крепостничества. Тут ее вины нет.
Другое дело, что сам институт крепостничества, как любой социальный институт, не мог находиться в застывшем состоянии, он продолжал развиваться при Екатерине. И, действительно, к концу XVIII в. достиг в своем развитии некоторого апогея, но решающее значение для этого, как ни странно, имел манифест Петра III, а не Екатерины, Манифест о вольности дворянской. Когда дворян освободили от обязательной службы, тем самым крестьян фактически превратили в их собственность, ничем не обусловленную.
Андрей Корский: Сейчас часто возникают споры, вопросы про то, является ли российская цивилизация цивилизацией европейской или восточной. В пользу восточной, как правило, говорят, что и славяне расселялись на восток, и приняли мы христианство по восточному образцу, много столетий перемешивались с татаро-монголами, в общем, приняли множество из азиатской культуры. Является ли, с вашей точки зрения, рациональным, что сейчас наши реформы идут в таком европейском русле?
Каменский: Я, во-первых, должен сказать, что я не сторонник цивилизационной теории. Категория "цивилизация" мне не понятна. У нас произошло следующее. Когда закончился советский период и историкам нужно было отказаться от марксистско-ленинской парадигмы, стали судорожно искать какую-нибудь другую, удобную. И нашли такой цивилизационный подход. На его основе пытались преподавать историю. Из этого ничего не вышло, потому что, на самом деле, цивилизационный подход – это один из многочисленных подходов, которые существуют в рамках исторической науки, которые сосуществуют между собой. Он не является всеобъемлющим. Марксистско-ленинская парадигма была хороша тем, что с ее помощью можно было объяснить все в истории. С помощью цивилизационного подхода - нет, нельзя. Поэтому я лично не являюсь сторонником этого подхода, и для меня категория "цивилизация" не очень ясна. Это первое.
Второе. Понимаете, какая штука. Я не знаю, и никто из тут присутствующих не знает, что будет через 50 лет, правда? Мы сегодня находимся на цивилизационном переломе, на цивилизационном в другом смысле, на наших с вами глазах возникает абсолютно новое общество с абсолютно новой системой коммуникаций, ценностей и т.д. И, может быть, в этом обществе через 50 лет окажется, что нечто, что мы сегодня называем восточной моделью, окажется более эффективным. На сегодняшний день это не так.
На сегодняшний мы видим, что наиболее эффективной социальной моделью является модель, условно опять же называемая “западной” или “европейской”. Хотя опять же это очень условно. В каком смысле она является более эффективной? В том смысле, что она обеспечивает наиболее высокое качество жизни. Вот и все. Опять же качество жизни с точки зрения той системы ценностей, которая доминирует в сегодняшнем обществе. Более, на мой взгляд, ничего за этим нет. Если мы сегодня думаем о том, что нам надо на что-то ориентироваться, поэтому мы говорим – да. Спросите людей на улице: “Как вы хотите жить? Как в Бельгии или как в Индии?” Наверное, вам скажут, что хотят жить в Бельгии. Думаю, что таких будет 99%. Вот и все.
Лейбин: Не могу здесь от себя не заметить, что у нас выступал человек, который рассказывал про теорию цивилизаций, - Г.С.Померанц. Он бы сразу вам сказал, что нет никакой одной восточной цивилизации, у арабов одна…
Каменский: Безусловно. Безусловно, нет.
Лейбин: Даже в рамках теории цивилизаций.
Каменский: Потом, когда вы говорите: “Мы заимствовали на Востоке…”. Что мы заимствовали? Мы заимствовали христианство, все-таки. Мы же не ислам заимствовали там на Востоке. Если вы приедете в Венецию, вы увидите следы активного взаимодействия Венецианской республики с Византией. Вы просто выйдете на площадь Св. Марка, посмотрите на собор Св. Марка, перед вами просто византийский собор. Ну, и что из этого? Венецианцы, что - стали от этого китайцами или индусами? Нет. Византийская цивилизация – это христианство, это, в конечном счете, европейская цивилизация. Она только географически, с нашей с вами точки зрения, на Востоке, но это наша с вами воображаемая география. Когда Владимир Святой думал о том, где брать веру, он не думал "это Запад, а это Восток", он вообще этого не понимал, у него не было таких категорий.
Корский: О чем он тогда думал?
Каменский: Он думал, что православие лучше, потому что на Руси пить привыкли.
Корский: Это, простите, такой циничный подход.
Каменский: Это не циничный подход, это подход вполне прагматичный. Нет, Владимир Святой был, безусловно, прагматиком, он выбирал то, что удобнее. Вот, связи Древней Руси с Византией были очень тесными. Понимаете, она политически была связана, Русь пыталась себя противопоставлять Византии. В этом смысле посмотрите на всю историю. После так называемого татаро-монгольского ига Московская Русь заимствует многие политические институты монголов. Петр Первый 21 год воюет со шведами и устраивает административную систему по шведскому образцу. Это был совершенно прагматический подход. Византия – сильное государство, там православие. Западная Европа в это время состоит из каких-то маленьких многочисленных государств, там непонятно, что происходит. А Византия - она рядом, она огромная, и, конечно, надо на нее ориентироваться. Это был чисто прагматический подход.
Лейбин: Если позволите, я попытаюсь сказать свой вариант ответа на подобный вопрос в том смысле, что на разные вещи можно смотреть с прагматической рамки, а можно и с идеалистической. Но делая что-то и прагматично, и идеалистично, опираться на свою культуру. А когда опираешься на свою культуру, ты в части, например, реформирования находишь то, что мы с западной цивилизацией, в принципе, в одном интеллектуальном котле. Возможно, взглянув на что-то другое, мы найдем что-то китайское, но это пока маловероятно. Но, в принципе, если обращаться к своей культуре, без чего невозможно что-либо делать (и, вообще, это ценность, я хочу жить в России, а не где-то еще, поэтому я обращаюсь к своей культуре), и отсюда где-то прямо лежит европейская цивилизация.
Вопрос из зала: Была упомянута такая категория, как социальная опора. Я бы хотел спросить об опоре другого сорта, об опоре ментальной, опоре на некоторые образцы. Чиновники моего поколения и даже некоторые помоложе в качестве ментальных образцов в лучшем случае имели кое-как интерпретированные факты из истории в советском изложении: как было при Сталине, как было при Ленине – и уж совсем запредельные представления даже о событиях столетней давности. Похоже, с этой опорой было и остается еще хуже, чем с социальной. Вам как профессиональному историку какой сценарий представляется более правдоподобным? Грубо говоря, этот запас ментальных образцов, что я чиновник, проводящий губернскую, медицинскую, образовательную, дорожную, какую угодно реформу, знаю, как об этом думали образованные люди в екатерининскую эпоху или при Александре II и т.д. Насколько вероятно, что такой способ мышления станет привычным, распространенным? Грубо говоря, современное историческое образование, оно к этому людей подвинет, хотя бы следующее поколение чиновников?
Каменский: Насчет исторического образования я сильно сомневаюсь. В том состоянии, в котором сегодня историческое образование, это вряд ли. Но, понимаете, это связано с двумя вещами. Во-первых, что мы имеем в виду под историческим образованием.
Вопрос из зала: В самом узком смысле, набор ментальных основ.
Каменский: Историческое образование устроено пока сегодня по-другому. Помните, президент сказал: “Мы учим историю…” Для чего, вы помните?
Вопрос из зала: Для того, “чтобы гордиться”.
Каменский: Совершенно верно. Значит, это другой дискурс. Это первое. Это, на самом деле, воспроизведение дискурса, который восходит к древности, это совершенно понятно. История существует, для того чтобы представлять некие образцы и на этих образцах учиться, образцы, прежде всего, героического и т.д. Но здесь еще и проблема, связанная со статусом истории в общем. А статус этот на сегодняшний день очень своеобразен. Потому что, с одной стороны, это то, о чем я сегодня в самом начале говорил, что нет никакого доверия к историкам. С другой стороны, очень высокий интерес к истории. С третьей стороны, необыкновенная популярность, скажем, сочинений Фоменко и всего, что с этим связано.
Я сейчас скажу вещь, которая вас удивит. Во всем феномене Фоменко я вижу очень позитивную сторону. Потому что на самом деле это означает, что у части нашего общества в головах происходят очень важные перемены, связанные не с восприятием истории, а, вообще, с восприятием окружающего мира, я бы сказал, такие перемены постмодернистского свойства. Только человек, который начинает постмодернистски мыслить, если хотите, может всерьез воспринимать Фоменко.
В этом смысле для нас, историков, это хороший признак. Потому что от нас, историков, больше никто не требует, чтобы мы сейчас, сегодня, принесли истину. В том взрыве интереса к истории, который был в конце 80-х гг., как мне представляется, была такая невербализованная вера в то (это связанно с особым отношением к истории в России), что, чтобы нам идти вперед, необходимо сейчас, сегодня сказать о прошлом всю правду. Без этого движения невозможно достичь светлого будущего. Правды мы сказали с избытком, светлого будущего нет, произошло разочарование. Но в результате происходит изменение традиционной модели восприятия истории.
А для традиционной модели (это отмечается рядом исследователей для русских людей и некоторых других народов, но это то, что отличает Россию от многих западных обществ), в принципе, характерна большая степень ощущения детерминированности настоящего и будущего в прошлом. Т.е. это постоянное ощущение давления прошлого. Западный человек в меньшей степени это ощущает, в гораздо меньшей. Ментально он понимает, что настоящее связано с прошлым, будущее с настоящим, но это давление он ощущает значительно меньше. Сейчас происходит эта трансформация. И можно думать, что через какое-то время возникнет вполне нормальное, здоровое ощущение истории.
Что касается того, какие образцы возникнут и возникнут ли вообще в головах чиновников, это опять же зависит от того, что я говорил, отвечая на вопрос Виталия. Когда эти чиновники будут вырастать из гражданского общества и у них будет соответствующая система ценностей, у них, наверное, будет возникать и какой-то иной ментальный ряд. По крайней мере, он будет знать, что на каких-то этапах своей деятельности он должен обращаться к профессионалам, он должен обращаться к интеллектуалам и т.д. Вот так это устроено.
Лейбин: Может, я ошибаюсь, но между местами, где вы говорите про историю и где вы говорите про настоящее и уроки истории, есть некоторый раскол. В том смысле, что есть одна часть информации и уроков, относящаяся к тому, как делать реформы, как все это устроено в смысле социальной опоры и всего такого и где брать образцы. А вторая часть устроена так: вы приносите новую, в исторической конструкции необязательную, интеллектуальную фикцию гражданского общества, и без нее не можете сформулировать реформистское пространство достаточным образом. Нужна ли эта фикция для исторической конструкции? Она же там не очень нужна. Почему она сейчас появляется?
Каменский: Потому что живем с вами не в XVIII в., исключительно поэтому. Потому что для XVIII в. работали другие механизмы, действовали другие факторы. Мы с вами употребляем слово “общество” (я сейчас даже говорю не о гражданском обществе, а о категории – общество). А что такое общество? Общество – то же самое, что все население страны? То же самое, что народ? А в исторической науке есть вопрос, тема, которой посвящен целый ряд работ: когда в России возникает общество? Общество в том смысле, в котором в английском языке существует слово society. Это не население. И историки говорят (между прочим, об этом говорили русские дореволюционные историки), что общество в этом понимании возникает в России как раз во второй половине XVIII в.
Когда я говорил, я говорил о том, что это мы видим отсюда, из XXI в., что там в XVIII в. что-то такое зарождается, что мы можем обозначить, приклеить такой ярлычок, что это элементы того, в чем мы видим гражданское общество. Но люди XVIII в. не мыслили в этих категориях. Екатерина не поняла бы нас с вами, если бы мы произнесли это словосочетание. Но сегодня, в категориях сегодняшнего дня мне представляется, что разрешение проблем, о которых мы говорим, без гражданского общества (хотя опять же это, если мы станем всерьез говорить, не вполне ясное и четкое понятие), тем не менее, без него невозможно.
Григорий Глазков: У меня два вопроса. Первый по поводу исторического сознания общества. Наверное, можно пользоваться этой категорией, со второй половины XVIII в. оно у нас есть. Вы, на мой взгляд, справедливо противопоставили историческое самосознание российского общества и западного. В частности, сказали, что мы чувствуем себя более связанными историей, чем западные люди. На ваш взгляд, каково происхождение этого явления, этой разницы, и когда она возникла?
Каменский: Это интересный вопрос, и то, что я буду говорить, - это то, что сейчас, в данную секунду приходит в голову. Думаю, что это, на самом деле, связано с традицией или отсутствием таковой, связанной со становлением личности в России. По мере становления в Западной Европе системы гражданских прав, по мере того, как человек, личность начинает ощущать себя именно индивидуальностью, обладающей определенными свободами, правами и т.д., он в большей степени начинает ощущать - особенно это происходит с началом Нового времени - творцом собственной судьбы.
Наш же человек нередко живет по инерции, связанной с моделью иждивенческого по отношению к государству существования, которая существовала в советское время, и от этого очень трудно избавиться. Люди ощущают: государство нам обязано. Не я сам, а государство нам обязано.
Глазков: Но по вашим наблюдениям, если таковые есть, этот разрыв в видах самосознания российского и западногоь - о каком историческом периоде можно говорить? Когда он возник или начал возникать?
Каменский: Наверное, тогда, когда вообще формируется историческое сознание. Оно не всегда существует, оно не существует с самого начала, оно возникает на определенном этапе как нечто осознанное. Наверное, тогда, с самого начала.
Глазков: Дело в том, что, не возражая против вашего объяснения, скорее его дополняя, могу сказать, что сейчас в современной психологии развивается изучение семейной истории, так называемые трансгенерационные закономерности. И выясняются очень интересные вещи, что когда человек изучает свою собственную семейную историю, он становится гораздо более свободным в том, как он живет. Именно поскольку человек очень часто не знает того, что происходило, в том числе из-за каких-то семейных тайн, из поколения в поколение в этой семье происходят какие-то очень плохие вещи. Когда он о них узнает, он приобретает свободу. Мне кажется, что то, что происходит с российским историческим самосознанием в противоположность более развитым в этом плане западным странам, примерно такого же порядка.
Каменский: То, что вы сейчас сказали, совершенно замечательным образом перекликается с итогами недавно мною слышанного доклада двух моих коллег, которые пытались найти ответ на вопрос: знают ли американцы историю. Коллеги изучили сотни опросов американцев, начиная с 30-х гг. до сегодняшнего дня, сотни. И выяснили: американцы историю знают. Что они знают, я вам сейчас скажу. Они знают все те основополагающие факты истории, которые сформировали современное американское общество, - это первое, что они знают. Второе - они знают семейную историю.
Глазков: Спасибо большое. Второй вопрос. Я не знаю, насколько реально на него ответить, но меня очень заинтересовал вопрос: вы сказали про зарождение основ гражданского общества на основе екатерининских реформ. Имея представление и о реформах, которые были после Екатерины (я, вообще, об исторических событиях, которые произошли), на ваш взгляд, что происходило с этой тенденцией формирования гражданского общества и как это было связано с тем, что делали и не делали реформаторы и, вообще, власти впоследствии?
Каменский: Здесь вот что, как мне представляется, произошло. Та система управления на местном уровне, которую создала Екатерина, продолжала существовать. Павел, придя к власти, немножко скорректировал, потом, когда пришел Александр I, он это восстановил. Но Павел ликвидировал среди прочего еще один очень важный момент этой реформы, о котором я говорил. Он восстановил все те центральные органы власти, которые уничтожила Екатерина. И Александр, когда взошел на трон, он на местном уровне все то, что бабушка делала, восстановил, а на центральном уровне оставил все то, что сделал папа. В результате получился такой тяни-толкай, при котором процесс развития этих элементов гражданского общества замедлился, очень сильно замедлился - это первое. Второе, конечно, как здесь уже говорилось (не знаю, стоит ли говорить о проклятии), важнейшим фактором было крепостничество. И это Екатерина понимала.
Екатерина в 1785 г. издала две жалованные грамоты: дворянству и городам. Грамота городам была как раз нацелена на создание этого самого среднего класса. Но у нее в ящике письменного стола лежала третья грамота, которую она не могла опубликовать. Это была грамота крестьянам. Исследователи, когда кладут рядом эти три текста, говорят: “Это то, что должно было составить то, что в XVIII в. называли Конституцией”. И там видно, как она прописывает, одинаково, старательно, конструирует это по одному принципу. Конечно, это был очень сложный процесс, который был замедлен. Но я думаю опять же, что если бы не екатерининские реформы, о которых я говорил, не могли бы возникнуть земства, потом, уже после реформы Александра II. Если бы не эти екатерининские реформы, не возникла бы разночинная интеллигенция, как бы к ней ни относиться, как бы ни относиться к той роли, которую она сыграла.
Лев Московкин: Спасибо за интересную лекцию, многое прозвучало для меня внове. Я не историк, и ваше замечание по семейной истории я не знал, но чувствовал по себе. Может быть, удивительно будет звучать, но я все-таки скажу. У меня три вопроса, если можно, и два замечания. Первый вопрос. Как раз во время жестокого кризиса в образовании и кризиса в подготовке учебников, который проявился, прежде всего, в истории (это в Думе так бурно обсуждалось, что нельзя от этого уйти), вышел фильм Парфенова (собственно, мои знания истории оттуда). Как вы оцениваете журналистское творчество в исторической науке?
Второй вопрос. Как вы видите исход 2008 г.? Сейчас накопилось уже достаточно много моделей, которые бурно обсуждаются, Веллер, Доренко, которые назвали государственным переворотом, сегодня комитет по госстроительству даже выдавал заключение на книгу Доренко, Бушков еще есть, у которого в Интернете огромное количество поклонников.
Следующий вопрос. Почему вы называете (не только вы, это общее мнение) то, что произошло в 90-х гг., реформой? По моим ощущениям, может я не прав, это было время, когда никакого государства не было, и не было, вообще, ничего, совсем. Если что-то было сделано сознательно, и они это время пережили, то, наверное, это большое благо.
Два замечания такие. Опять же по моим наблюдениям, я совершенно не могу с вами согласиться, что чиновничество может вырасти из гражданского общества. Потому что нанятые обществом представители нашей власти себя чувствуют в преддверии политической смерти. Почему-то этого никто не заметил, но весной под ними уже не кресла горели, а сама земля. На революции осенью, и 122 закон сработал такой превентивной катастрофой, которая сняла напряжение наиболее активной части населения. Я это видел в натуре, нам это просто говорили. Это сейчас называют ошибкой, никакой ошибки там, на самом деле, не было.
Второй момент, который не заметили даже мы сами, журналисты (здесь, наверное, мы тоже виноваты), - это чрезвычайно бережное, буквально почтительное отношение к журналистам. Потому что во время, когда массовое сознание просто поплыло, власть стала очень сильно зависимой от журналистского креатива. Я вас уверяю, можете не верить, но это было так.
Последнее замечание. Опять же, может, я не прав, но государство – это такое же системное выражение общества, как личность для человека. Когда проходит климакс, пубертация или кризис середины жизни, трансформируется его генетическая система: личность плывет до исчезновения, потом она возрождается в каком-то новом качестве - то, что произошло в 90-х гг. Как вы относитесь к этой модели?
Каменский: По порядку. Я скажу так: к творчеству Парфенова я отношусь очень позитивно. Я не буду это продолжать, поскольку я имел некоторое непосредственное отношение к фильму “Российская империя”, и было бы, наверное, не очень скромно развивать эту тему. Но считаю его очень талантливым человеком с очень хорошим, правильным (если хотите) чувством истории.
Насчет 2008 года не знаю. Считаю, что заниматься прогнозами – не функция историка. Для этого есть политология, пускай они этим занимаются, они это делают именно для того, чтобы ни один из прогнозов не состоялся, как я это понимаю.
Что касается 90-х гг. и отсутствия государства, я думаю, это зависит от того, что мы понимаем под государством. Для кого-то, кто привык, что государство – это такой добрый дядюшка, большой, сильный, с берданкой, который охраняет чего-то, - его, наверное, не было. Для кого-то это государство было. Если государство – это мы с вами, то оно было. А если государство – это то, чего мы боимся, то, наверное, его не было. У В.В. Розанова есть замечательное рассуждение на эту тему, когда он говорит: “Я иду по улице, и на углу стоит городовой. Почему я его боюсь, ведь это он должен мне честь отдать, когда он меня видит, здороваться со мной, радоваться! А я, вот, его боюсь”. И мы с вами точно так же, это наше с вами отношение к государству. Мы идем, видим милиционера, мы его боимся. И правильно делаем.
Я не знаю насчет того, почитает власть журналистов или не почитает. У меня нет такого ощущения, что она их почитает. Она, может быть, их боится, но не уважает, я бы так это сформулировал. Боится. Я думаю, что это очень по-разному. Если бы она их не боялась, мы бы не увидели того, что мы с вами видим. Тот же Парфенов не издавал бы журнал Newsweek, а делал бы что-то другое на телевидении. Я, все-таки, думаю так.
Что касается того, что такое государство, можно массу определений, дефиниций, интерпретаций придумать, в каждом, наверно, будет какой-то смысл. Можно опять же и ленинское определение вспомнить, что это система насилия одного класса над другим, можно и так подойти. На мой взгляд, это некая система институтов, которая создана для того, чтобы мы с вами жили в безопасности и благоденствии. Вот и все.
Александр Верещагин: Слушая вашу во всех отношениях содержательную лекцию, я вывел одно довольно элементарное наблюдение по поводу успешных реформ в российской истории, понимая под успешными реформами те, где более-менее достигались цели, поставленные реформаторами. Это реформы Петра I, Екатерины II и Александра II. Наблюдение заключается в том, что все они продолжались довольно похожий и весьма продолжительный период времени, это приблизительно 25 лет, четверть века. В связи с этим у меня возник такой вопрос: как вы думаете, если бы Екатерину II кто-нибудь - дворяне, например - избрали главой государства года на четыре, были бы реформы Екатерины II в российской истории, и вошла бы она в русскую историю как Екатерина II? Это первый вопрос. Имея в виду, что во всех этих реформах 5 лет уходило только на то, чтобы раскрутиться, обдумать, выработать план и собрать силы.
Тесно с этим связанный второй вопрос касается роли элит, на которой вы, в принципе, остановились, но, мне кажется, недостаточно. А между тем, эта роль очень важна. У вас, с одной стороны - суверен, реформатор, главный, а с другой стороны – население, общество. Между тем, роль элит и различие элит… Элита Российской империи, землевладельческая, привязанная к земле, к месту, наследственная, и элита, скажем, горбачевского времени, номенклатурная, формально ненаследственная и не имеющая никакой серьезной собственности, по крайней мере, официально. Элита нынешнего времени, состоящая из имущих, но вместе с тем имущество сейчас можно очень легко продать, обналичить и перевести за границу, элита, которая является частью, скажем, глобальной элиты. Различие элит, как вы думаете, насколько это важно в относительном успехе или относительном неуспехе реформ?
Лейбин: В связи с теорией элит.
Каменский: Что касается первого вопроса, мне кажется, он не имеет такого ответа, по крайней мере, достаточно серьезного. Гадать, что было бы, если бы… В данном случае это совершенно невозможно, потому что мы с вами говорим о XVIII в., и это значит, что мы с вами не просто говорим о времени, которое было 250 лет назад, мы говорим о людях, которые жили тогда и думали так, как думали люди тогда. Если бы Екатерину избрали на 4 года, она была бы просто не Екатериной.
Верещагин: Реформы были бы?
Каменский: Если бы Екатерину, такую, какой она была в XVIII в., избрали на 4 года, она вряд ли согласилась бы быть избранной на 4 года, потому что она не понимала бы, что это значит. Хотя, между прочим, Екатерина писала: “Я в душе республиканка”. Нет, не очень понимала. Что под республикой понимали в XVIII в.? Совсем не то, что мы с вами понимаем. Республикой считалась Польша, где был выбранный король, но его выбирали не на 4 года, а, все-таки, до смерти, но он был выбранный, поэтому это была республика. Англию с ее конституционной монархией называли республикой. Так что это совершенно другие категории.
Что касается различий элит, это более сложный вопрос. Потому что здесь возникает вопрос о том, что такое элита. На самом деле, как правило, в любом государстве мы имеем не элиту как нечто единое, а мы имеем элиты. И в России XVIII в., и сегодня мы имеем разные элиты. Есть элита, связанная с чиновничеством. Есть элита, связанная с бизнесом. Они далеко не всегда соприкасаются. Уверяю вас, что есть, наверное, что-то, что в статусном отношении можно назвать элитой, связанное исключительно с криминалом. А есть то, что можно назвать интеллектуальной элитой. Это достаточно тонкий вопрос. Если прямо отвечать на ваш вопрос, мне думается, что различия в имущественном положении элит, то, которое вы обрисовали, оно не имеет принципиального значения, потому что связано опять же с тем, что между XVIII и XXI вв. есть разница, разные исторические условия. Я понимаю, о чем вы говорите, вы говорите о наследственности или ненаследственности. Но мы же не единственная страна на этой планете, нигде в мире сегодня нет элиты, чей статус был бы обусловлен наследственным землевладением, нет.
Верещагин: Виноват. Это просто вариант. Речь идет не о наследственности, а о коренной связи со страной. Она может быть как-то иначе связана. Кстати, приведите пример успешных реформ, которые сейчас проводятся, планомерных, протяженных.
Каменский: Вы имеет в виду в мире? В мире вспомните реформы Маргарет Тэтчер.
Верещагин: Англия – единственная страна, где осталась землевладельческая элита.
Каменский: Если вы поговорите с англичанами и скажете, что у них землевладельческая элита, я не уверен, что они поймут, о чем вы говорите. В Америке есть люди, которые владеют большими наделами, большими земельными объемами. Мне, например, в Америке приходилось быть в имении одного миллионера, у которого в этом имении конюшни, ипподром, своя железная дорога есть. Ну и что? Его принадлежность к элите определяется не этим. Она определяется его состояниями. Он тоже в любой момент может продать и перевести в швейцарский банк. И что из этого? По-моему, тут нет ничего принципиального с точки зрения успешности реформ.
Борис Долгин: Хотелось бы немного уточнить относительно второго этапа нынешних реформ, точнее, причин его несоотносимости с периодом послепетровских реформ. Когда говорят о втором этапе, обычно имеют в виду не что-то, начавшееся сейчас, а то, что началось летом 1998 г., когда имело место нечто вроде системного кризиса. Более того, среди средств выхода из этого кризиса не то чтобы идеологически сознательно, но применялось, отнюдь не либералами по взглядам - правительством Примакова - сжатие госбюджета, включая уменьшение финансирования госаппарата и т.д. Можно чуть подробнее о принципиальной разнице? Если продолжать аналогию, нынешний момент – это уже скорее стадия “после”, которую нужно рассматривать как-то иначе.
Каменский: Как вы прекрасно знаете, любая периодизация чего-либо носит условный характер. Это для начала. Второе: когда мы оперируем этими понятиями, раз вами вопрос был так поставлен, начать надо с того, что такое кризис. Это еще одно слово, которое мы с вами слышим постоянно. Если вы откроете какой-нибудь политологический словарь, вы там обнаружите определение: кризис - это этап в развитии системы, когда эта система, грубо говоря, оказывается неадекватной изменившимся внешним вызовам, она оказывается не в состоянии ответить на некие новые вызовы, которые возникают извне. В этом смысле, когда мы говорим “системный кризис”, хотя я тоже употребляю это понятие, мы говорим масло масляное. Любой кризис – это кризис системы. Другое дело, что кризис может охватывать, скажем, государство как систему, и именно это я имел в виду, когда говорил о системном кризисе в предпетровский период, он может охватывать какую-то частную сферу. Когда мы говорим о кризисе 1998 г., я не думаю, что это был кризис общегосударственного масштаба, это был кризис финансовый, хозяйственный, вероятно, в определенной мере, политический кризис. Кризис предпетровского времени – это кризис традиционного общества, традиционной культуры.
Долгин: Я говорю о послепетровском.
Каменский: Я понимаю. Я просто говорю о том, что нужно начать с того, что такое кризис. Соответственно, что касается послепетровского времени, вы сами говорите, что это начинается с кризиса, если взять вашу периодизацию - с 1998 г., а послепетровское время – это когда кризис уже преодолен в результате реформ. Да, разруха, финансовый кризис, экономический, но кризис системный, кризис в том смысле, в предпетровском, как кризис традиционного общества - преодолен. Потому что этот кризис проявлялся, в частности, в том, что Россия оказывалась неадекватной окружающему миру. Одним из проявлений кризиса являются бесконечные военные проигрыши во второй половине XVII в. Это все преодолено.
Ситуация 1998 г. и дальше - иная. Если брать точкой отсчета 1998 г., мы можем этот период разделить на два подпериода: один - начиная с 1998 г., другой - с 2000, когда начинается президентство Путина. Но все же ситуация мне кажется иной. Потому что о послепетровском времени я говорил в таком контексте, как о времени, когда происходит адаптация результатов петровской реформы к реалиям жизни.
Долгин: Период с последнего предпутинского года до начала "дела ЮКОСа" нередко рассматривается как своего рода адаптация, закрепление того, что удалось сделать в результате реформ 90-х гг., некоторое доналаживание системы, которое затем было свернуто.
Каменский: Я с этим не могу согласиться, потому что, безусловно, "дело ЮКОСа" носит рубежный характер, у меня в этом нет никакого сомнения, но процесс-то начался раньше, история с НТВ была раньше, все эти процессы начались раньше, это во-первых. Во-вторых, "дело ЮКОСа", на мой взгляд, вообще лежит в другой плоскости, например, чем дело НТВ, оно связано с иными причинами.
Долгин: Оно стало рубежным в общественном сознании.
Каменский: Оно стало рубежным, несомненно. Но, честно, я не вижу здесь никакой адаптации к жизни. Если, вообще, употреблять это слово, это адаптация к интересам узкого круга людей, к интересам той самой властной элиты, больше ничего.
Московкин: Я постараюсь сказать только то, что мне кажется самым важным в этом контексте. Кризис – это тот же синоним катастрофы одного из четырех революционных режимов, единственного, в котором может возникать новое. Я специально хотел попросить, но вы меня опередили, не употреблять плеоназм типа системный кризис, потому что вне системы это не бывает. Спасибо.
Каменский: Я только возражу, что кризис и катастрофа – это абсолютно разные понятия. Катастрофа – это один из способов разрешения кризиса. Кризис может закончиться катастрофой, а может закончиться реорганизацией системы.
Лейбин: Александр Борисович, в конце мы обычно подводим итоги того, какое произошло общение. Я со своей стороны могу заметить, что из того, что мне интересно (а это места, где происходит выход за пределы области, о которой говорят), на границах истории, - здесь, мне кажется, основной дефицит инструментов был в тех местах, где употреблялись слова "элита", применялась социология типа сословного общества. Что, кажется, является признаком того, что у нас нет социологии нашего общества, поэтому мы теряемся. И такие вещи, как гражданское общество, не заменяют социологию, потому что когда говорят "гражданское общество", а потом сразу, что его нет, это никак не помогает анализу. Трудно использовать инструмент, который оперирует тем, чего нет. Этот инструмент тоже не подходит. Вопрос о социологии постсоветской российской жизни. Может быть, у вас какой-то другой вопрос.
Каменский: Нет, я, несомненно, согласен с тем, что вы сейчас сказали. Скажу, что тематика, связанная с элитами, с историей российских элит, – тематика очень актуальная, но плохо проработанная в научном отношении. Что касается гражданского общества, это сложный вопрос. Я сказал, вы сами это прекрасно знаете, что масса определений, каждый это понимает по-своему. Я понимаю это так, гражданское общество – это наличие институтов, позволяющих населению контролировать власть. Я это понимаю, прежде всего, так. Другое дело, как эти институты работают, как они устроены, дальше начинается разговор о выборах, значении выборов и т.д. Но главное - то, есть эти институты, механизмы даже, может быть, или их нет. Мы можем говорить, что у нас нет элементов гражданского общества, или, может быть, у нас есть какие-то элементы гражданского общества, но оно еще не сформировалось. Это опять же вопрос дискуссионный, в значительной степени вопрос о словах, которые мы употребляем. Мне, например, странно слышать, когда говорят: “Мы будем строить демократию особым путем, у нас будет особая демократия”. Это, на мой взгляд, фраза, лишенная какого-либо смысла, потому что мне представляется, что демократия - она или есть, или ее нет. Не может быть с ушами или с хоботами, она или есть, или ее нет. Все. А каких-то вариантов демократии я не понимаю. Вот в гражданском обществе по-другому, там эти механизмы или институты в разных странах могут быть устроены по-другому. А в целом, я могу поблагодарить всех, потому что мне было интересно, не знаю, как вам. Спасибо.
| 17 ноября 2005, 09:46 |
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Реформы в России с точки зрения историка | | | Культура речи учителя и ученика |
Дата добавления: 2014-11-14; просмотров: 494; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!