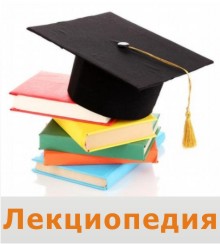
Главная страница Случайная лекция

Мы поможем в написании ваших работ!
Порталы:
БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика

Мы поможем в написании ваших работ!
Основные направления и течения русской литературно-общественной мысли первой четверти XIX в
О воздействии Великой французской революции на русское общественное самосознание конца XVIII — начала XIX в. хорошо известно. Первый этап революции, созыв Генеральных Штатов, Учредительного собрания, «Декларация прав человека и гражданина» широко освещался русской печатью. Развитие революционных событий — казнь короля, ниспровержение монархии, провозглашение республики, якобинская диктатура и революционный террор либеральной интеллигенцией было воспринято отрицательно. В этом увидели потрясение основ общественного порядка и прямую угрозу суверенитету России.
Одним из многочисленных свидетельств панической растерянности, охватившей русское дворянство и правительство перед лицом такого разворота революционных событий, свидетельствует статья, появившаяся на страницах «Политического журнала» в самом начале 1793 г. Итог предыдущего года, переломного в истории французской революции, определён в ней так: «1792 год учинился ужаснейшим годом в сем столетии, поразительнейшим в истории народов, жесточайшим в человечестве. Ужасы происшествий превосходят силы слов, выражений не достает для глубоко уязвленного чувствования... многие князья изгоняются из своих земель — многие земли наполняются возмущениями против своих князей... тысячи... бегут из своего отечества... тысячи и тысячи умерщвляются в городах, в королевских чертогах, в тюрьмах, на публичных площадях... тысячи и тысячи поедает огонь и меч войны... многие земли наводняются войною без всякого ее объявления — подданные принуждаются отрещись от повиновения своим государям, вводятся в заблуждение и подстрекаются объявить себя мятежниками — возмущение именуется святейшею из должностей, — защитники спокойствия, порядка, законов поруганы, гонимы... явные богоотступники становятся законодателями... Вот отличия 1792 года!».
Ужас перед происходящим на Западе и опасение повторения того же в России испытали многие не только в России, но и во всём мире. Выводы, которые делают русские обозреватели из этих событий, далеко не однозначны, а иногда и противоположны. В одних случаях — и их подавляющее большинство — вся ответственность за «злокозненное буйство» революции возлагается на «французских философов», т.е. просветителей, «развративших умы». В частности, это мнение разделял и Д.И. Фонвизин, утверждая в своей последней комедии «Выбор гувернера», что «равенство состояний» есть «вымысл ложных философов, кои красноречивыми своими умствованиями довели французов до настоящего их положения». Другие, защищая просветителей, указывали, что французская революция и все её «крайности» явились неизбежным следствием злоупотреблений, владычествовавших во Франции до того. В подобных высказываниях звучит более или менее явный, а иногда и прямой призыв немедленно облегчить положение русских крестьян и вообще ограничить самодержавно-крепостнический произвол.
В брошюре Д.А. Голицына «О духе экономистов, или экономисты, оправданные от обвинения в том, что их принципы легли в основу французской революции» (1796). Автор писал: «роковая революция имела самые пагубные следствия во всех частях земного шара... перевернула все понятия, развратила все нации... внося в умы смятение и расстройство, следствие и конец которых трудно предвидеть», и уже привела к тому, что все монархи и дворянство «стоят на краю пропасти», Голицын убежден, что только «возрождённый физиократизм» способен обеспечить «личное и общественное благополучие, мир и счастье для всех» и защитить «алтарь, трон, собственность».
В страхе перед революцией, крестьянскими волнениями, которые охватили в 1796—1798 гг. более тридцати русских губерний, намечается одна из тенденций русской общественной жизни начала XIX в. Страх пред «новой пугачёвщиной» сочетается с признанием необходимости срочных реформ. Этому во многом способствовал заключительный эпизод французской революции — термидорианский переворот, совершённый крупной буржуазией, ниспровергшей революционно-демократическую диктатуру якобинцев. Термидор и его логическое следствие — империя Наполеона на время примирили русское дворянство с французской революцией, заставив признать благотворность её конечных результатов и необходимость для блага России и собственного спасения постепенных и мирных антикрепостнических преобразований. Таковы исторические и идеологические предпосылки «дней Александровых прекрасного начала», либеральных намерений и обещаний царя, либеральных надежд и настроений, охвативших прогрессивные круги русского дворянства. Один из ближайших друзей и советчиков молодого Александра I Адам Чарторыжский писал: «Оправившаяся от террора французская республика, казалось, победоносно шла к удивительной будущности, полной благоденствия и славы».
Сознательная ориентация на «образец» социального строя империи Наполеона определяет содержание идеологии 1800-х гг. — идеологии политического свободомыслия.
Консерваторы ратуют за сохранение самодержавно-крепостнических устоев русской жизни в их неприкосновенности и выдвигают программу полной изоляции и очищения русского национального самосознания от каких бы то ни было западных влияний, усматривая в любом из них губительность. Отождествление всего западноевропейского с революционным, а феодально-крепостнической русской культуры с её национальными традициями — таков логический вывод антипросветительской идеологии 1800-х гг.
Просветительские традиции русской литературы XVIII в. совмещаются с идеями и настроениями либерального дворянства, пройдя испытание в 1793—1794 гг. Кризис иллюзий идей русского Просвещения преодолевали его крупнейшие представители. О чём свидетельствуют: Н.М. Карамзин «Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодору» (1794); А.Н. Радищев «Осьмнадцатое столетие» (1801—1802). В произведениях сформулированы узловые проблемы русской литературно-общественной мысли первой четверти XIX в., завещанные ей всемирно-историческими итогами предшествующего века.
Авторы со скорбью и почти в одних и тех же образных выражениях говорят о катастрофическом «кораблекрушении», которое потерпели все грандиозные завоевания и светлые, оптимистические надежды «великого» «Века Просвещения» в кровавой «буре» завершивших его социальных потрясений.
Мелодор и Филалет — «друзья людей» и «добродетели», верные сыны этого «мудрого» века, одинаково потрясённые его «безумием». Отчаяние, крик души в письме Мелодора: «Конец нашего века почитали мы концом главнейших бедствий человечества и думали, что в нём последует важное, общее соединение теории с практикою, умозрения с деятельностию; что люди, уверясь нравственным образом в изящности законов чистого разума, начнут исполнять их во всей точности и под сению мира, в крове тишины и спокойствия, насладятся истинными благами жизни. О Филалет! где теперь сия утешительная система?.. Она разрушилась в своём основании. Осьмойнадесять век кончается: что же видишь ты на сцене мира? — Осьмойнадесять век кончается, и несчастный филантроп (друг людей) меряет двумя шагами могилу свою, чтобы лечь в ней с обманутым растерзанным сердцем своим и закрыть глаза навеки!».
Последний абзац не только риторическая фигура, в ней реальные факты русской современности — произошёл ряд самоубийств в передовой части русской дворянской молодежи.
Далее у Карамзина идёт речь о том, что вызвало и оправдывает, казалось бы, это разочарование: «Свирепая война опустошает Европу, столицу Искусств и Наук, хранилище всех драгоценностей ума человеческого; драгоценностей, собранных веками; драгоценностей, на которых основывались все планы мудрых и добрых! — И не только миллионы погибают; не только города и села исчезают в пламени; не только благословленные, цветущие страны (где щедрая Натура от начала мира изливала из полной чаши лучшие дары свои) в горестные пустыни превращаются — сего не довольно: я вижу ещё другое, ужаснейшее зло для бедного человечества». В чём же это зло? Оно в «торжестве» «мизософов», «ненавистников Наук»: «„Вот плоды вашего просвещения! говорят они: вот плоды ваших Наук, вашей Мудрости! Где воспылал огнь раздора, мятежа и злобы? Где первая кровь обагрила землю? и за что?.. И откуда взялись сии пагубные идеи?.. Да погибнет же ваша Философия!..“ — И бедный, лишенный отечества, и бедный, лишенный крова, и бедный, лишенный отца, или сына, или друга, повторяет: да погибнет! И доброе сердце, раздираемое зрелищем лютых бедствий, в горести своей повторяет: да погибнет! А сии восклицания могут составить наконец общее мнение: вообрази же следствия!». С этим-то важнейшим для Карамзина и лучших людей его времени вопросом и обращается Мелодор к Филалету, а сам Карамзин — к русскому читателю, к просвещённому обществу. Ответ на вопрос дан в письме Филалета к Мелодору. Это отповедь врагам просвещения и призыв к верности ему уже поколебавшихся друзей. Не просвещение вызвало «ужасные происшествия Европы», а недостаточная просвещённость людей и народов. И только «одно просвещение живодетельною теплотою своею может иссушить сию тину нравственности, которая ядовитыми парами своими мертвит все изящное, все доброе в мире; в одном просвещении найдем мы спасительный антидот для всех бедствий человечества». Это не отвлечённое философское рассуждение, а выступление против отечественных «мизософов».
К «ужасным происшествиям Европы» Карамзин относит и якобинский террор, хотя о нём прямо и не говорит. Но это общая черта просветительской мысли конца XVIII — начала XIX в., как русской, так и западноевропейской, положившая начало её кризису и усвоенная романтиками.
«Происшествия Европы» конца века предстают в изображении Радищева не менее «ужасными» по тем же причинам:
...сокрушил наконец корабль, надежды несущий, /Пристани близок уже, в водоворот поглощен, /Счастие и добродетель, и вольность пожрал омут ярый, / Зри, восплывают еще страшны обломки в струе. /Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро, /Будешь проклято вовек, ввек удивлением всех, /Крови — в твоей колыбели, припевание — громы сраженьев, /Ах! омоченно в крови ты ниспадаешь во гроб...
Но победа мудрости над безумием уже близка, и её заря взойдет в России, преобразованной и приуготовленной к тому Петром.
Утро столетия нова кроваво ещё нам явилось, /Но уже гонит свет дня нощи угрюмую тьму; /Выше и выше лети ко солнцу орёл ты российский, /Свет ты на землю снеси, молньи смертельны оставь. /Мир, суд правды, истина, вольность лиются от трона, / Екатериной, Петром воздвигнут, чтоб счастлив был росс. /Пётр и ты, Екатерина! дух ваш живет еще с нами. /Зрите же новый вы век, зрите Россию свою. /Гений хранитель всегда, Александр, будь у нас...
Этими, казалось бы, верноподданническими и потому столь неожиданными для Радищева строками и обрывается его не завершённое последнее произведение. Предполагают, что оно было задумано как «ода на восшествие на престол» Александра I, но ода отнюдь не похвальная, а программная, призывающая молодого и либерально настроенного царя стать просвещённым монархом, преобразователем отечества. Одновременно Карамзин призывал Александра:
Ты будешь солнцем просвещенья —/ Наукой щастлив человек —/ И блеском Твоего правленья/ Осыпан будет новый век.
Вера в близость правительственных, антикрепостнических и конституционных реформ, которые приведут Россию к мирному осуществлению просветительских идеалов, — характерная черта русского дворянского свободомыслия 1800-х гг., представленного популярным тогда «карамзинским», сентименталистским направлением. Чуждое революционных устремлений, оно внесло немалый вклад в процесс гуманизации русской духовной культуры. В условиях ожидания либеральных реформ и порождённых этим иллюзий «дней александровых прекрасного начала» Радищев и формулирует свою программу-минимум.
***
Наиболее распространённым и популярным среди читателей жанром русской литературы 1800-х гг. становится «чувствительная», сентименталистская повесть. Герой сентиментальной повести — «чувствительный», повинующийся голосу нежного и доброго сердца человек, погружённый в сферу личных, «частных» переживаний, но в то же время и человек самый обыкновенный, рядовой представитель русского общества. В этом его принципиальное отличие от лирического и драматургического героя литературы классицизма, с одной стороны, от нарочитой демократической «грубости» героя «низовой» литературы конца XVIII в. — с другой, и от гражданственности также сентименталистского героя «Путешествия из Петербурга в Москву» — с третьей. Однако дело не в общественном нейтралитете русского сентиментализма 1800-х гг. Личное, частное, мир интимных переживаний, «жизнь сердца» противостоит в сентиментализме, в том числе и русском, отнюдь не гражданской активности и сознательности, а иерархическим принципам монархической идеологии и морали, утверждая самоценность человеческой личности, независимо от того места, которое она занимает в сословной иерархии.
То же значение приобретает и свойственный русскому сентиментализму культ «сельской жизни». Он имеет социально-исторический, «либеральный» подтекст. Его истоки — в глубоких сдвигах, происходящих в идеологии дворянского общества под воздействием французской революции. В нём выражается новое понимание гражданского долга, достоинства дворянина, не в верноподданнической службе на военном или гражданском поприще.
В конце XVIII в. не менее важной дворянской обязанностью начинает считаться «отеческая» забота дворянина о благе его собственных «подданных» — крепостных крестьян. В речи Ф.С. Туманского, произнесённой весной 1794 г. на заседании Вольного экономического общества, об этом говорится так: «Хозяин не токмо владетель избытков своей деревни, но и отец своих поселян...». Такова «цель благоразумия; се польза и услуга Отечеству».
Эта новая идея, возникшая под воздействием французской революции, утвердилась в русской литературе только в 1800-е гг. и была актуальна вплоть до 1850-х. Через Карамзина, Шаликова, Пушкина и Гоголя она оказала влияние на молодого Л.Н. Толстого и легла в основу одного из ранних замыслов писателя — «Романа русского помещика» (письмо Нехлюдова к тетушке). «Чувствительная повесть» вовлекла в сферу художественного и сочувственного изображения рядового, подчас «маленького» человека и тем самым способствовала не только гуманизации, но и демократизации русского литературно-общественного сознания.
На протяжении первого десятилетия XIX в. сентиментализм остаётся популярным, но не единственным направлением русской литературы. Успешно соперничая с классицизмом в поэзии, сентиментализм противостоит в первое десятилетие XIX в. классицизму, расчищая дорогу романтизму, и постепенно уступая ему место.
Историческая специфика данного периода русской литературы в том, что никто не может ответить на вопрос, кем же всё-таки — сентименталистом или романтиком — был ближайший предшественник Пушкина и крупнейший до него русский поэт Жуковский. По мнению одних исследователей — сентименталистом, по мнению других — романтиком. Та же неясность – в отношении Батюшкова, Вяземского и других членов «Арзамаса», к числу которых принадлежал и юный Пушкин. Но все они, начиная с Жуковского и кончая Пушкиным, были и считали себя карамзинистами.
Карамзин — и прежде всего Карамзин-прозаик — общепризнанный глава русского сентиментализма. Но из этого не следует, что его единомышленники и последователи непременно должны были также быть сентименталистами. Его соратники и он сам ушли вперёд, углубляя и развивая либерально-просветительскую, проевропейскую ориентацию сентиментализма, т.е. преодолевая крепостническую отсталость, приближаясь к культурно-историческому уровню западноевропейских стран. На языке русской литературы XVIII в. слово «просвещение» в общеупотребительном смысле означало преодоление национальной замкнутости и феодальной отсталости отечественной культуры, приобщение её к духовным ценностям и бытовому обиходу европейской «общежительности».
Русские просветители XVIII в. — приверженцы и продолжатели дела Петра, интенсивной европеизации русской государственности и культуры с просветительской точки зрения, линии национального развития России. Передовое русское дворянство осознало необходимость ограничения крепостничества, но поскольку от него страдала вся страна, то это являлось общенациональным, в том числе и крестьянским интересом.
Необходимо было решить ещё одну национально-историческую задачу — привести лексический состав и синтаксический строй родного языка в соответствие с инородными ему западноевропейскими идеями и понятиями, так или иначе уже освоенными образованной частью русского общества, и тем самым сделать их общенациональным достоянием.
Вот почему центральным вопросом в литературной борьбе эпохи стал вопрос о литературном языке, или «слоге». Острая полемика по этому вопросу, развернувшаяся после выхода в 1803 г. «Рассуждения о старом и новом слоге» Александра Семёновича Шишкова (1754-1841), не утихала вплоть до начала 1820-х гг. Полемика размежевала две основных идейно-эстетических тенденций русской литературы последнего её допушкинского периода, названного Белинским «карамзинским периодом». Одна из них, представленная карамзинистами, приверженцами «нового слога», продолжает проевропейские традиции русского Просвещения XVIII в., другая, возглавленная Шишковым, теоретиком и защитником «старого слога», направлена против них во имя защиты средневековых устоев русской жизни от разрушающего воздействия просветительских идей и устремлений западноевропейской культуры.
***
Языковая реформа Карамзина преследовала цель сократить разрыв между духовными запросами образованных слоёв русского общества и семантическим строем русского языка. Так как все образованные русские люди были вынуждены не только говорить в своём кругу, но также часто и думать по-французски. В эпоху Просвещения французский язык становится международным языком культурного обмена и дипломатии. Поэтому не только русская, но и немецкая интеллигенция предпочитала его родному языку. Карамзинская реформа литературного языка была направлена на преодоление этого.
В статье 1802 г. «О любви к отечеству и народной гордости» Карамзин писал: «Беда наша, что мы все хотим говорить по-французски и не думаем трудиться над обрабатыванием собственного языка: мудрено ли, что не умеем изъяснять им некоторых тонкостей в разговоре». Призыв придать родному языку все «тонкости» языка французского.
Карамзин и Шишков одинаково видели в литературном языке не только средство выражения национальной мысли, но и её строительный материал. И поэтому стремились в сущности к одному – к преодолению двуязычия современного им культурного сознания. Шишков желал пресечь влияние на русское общество западноевропейской культуры; Карамзин же стремился привить русскому национальному сознанию европейскую культуру мышления, уже усвоенную образованной частью дворянского общества. Соответственно суть и значение начатой Карамзиным реформы русского литературного языка состояли не в сближении его «книжных» норм с нормами и формами разговорного языка дворянского «света», а в создании общенационального, одновременно и литературного, и разговорного русского языка, речевой формы непосредственного интеллектуального общения, как устного, так и письменного, отличной не только от «книжного» языка, но и от бытового просторечия, в том числе и дворянского.
Двуязычие русского образованного общества представлялось Карамзину одним из главных препятствий для национального самоопределения европеизированной русской литературы и культуры в целом.
Этому вопросу Карамзин посвятил в 1802—1803 гг. несколько специальных программных статей — «О любви к отечеству и народной гордости», «Отчего в России мало авторских талантов», «О книжной торговле и любви ко чтению в России» и др. «Язык важен для патриота», «авторы помогают согражданам лучше мыслить и говорить», «достоинство народа оскорбляется бессмыслием и косноязычием худых писателей», «варварский вкус» которых «есть сатира на вкус народа», — так аргументировал Карамзин просветительское, гражданско-патриотическое назначение разрабатываемого им «нового слога» русской литературы. Он был важен для Карамзина не сам по себе, а как необходимый проводник европейского, ненавистного Шишкову просвещения. И в этом всё дело. Отвечая на вопрос, «отчего в России мало авторских талантов», Карамзин писал: «Истинных писателей было у нас ещё так мало, что они не успели дать нам образцов во многих родах; не успели обогатить слов тонкими идеями; не показали, как надобно выражать приятно некоторые даже обыкновенные мысли». Поэтому «русский кандидат авторства, недовольный книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершеннее узнать язык. Тут новая беда: в лучших домах говорят у нас более по-французски... Что ж остаётся делать автору? выдумывать, сочинять выражения; угадывать лучший выбор слов; давать старым некоторый новый смысл, предлагать их в новой связи, но столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выражения!». Обмануть и скрыть — для того чтобы «новые выражения» и их новый гуманный смысл, их «тонкие идеи» стали для читателя «языком его собственного сердца».
Задача создания средств адекватного выражения на родном языке «тонких идей» и «чувствований» просвещённой части русского общества была не нова. Её поставил перед русской литературой Пётр, и решалась она всеми писателями и поэтами XVIII в., начиная от Кантемира и Тредиаковского, не говоря уже о Ломоносове, и кончая Державиным и самим Карамзиным. Но Карамзин понял и сформулировал эту не новую для русской литературы задачу как дело первостепенного национального, культурно-исторического, идейного значения.
Её окончательное решение принадлежит не Карамзину, а Пушкину, но на основе сделанного Карамзиным и карамзинистами. От них воспринял юный Пушкин арзамасскую школу «гармонической точности», точности не только поэтического выражения мысли, но также и самой поэтической мысли, способной охватить все грани внутреннего мира, все состояния души русского человека, ставшего или стремящегося стать «в Просвещеньи с веком наравне». Здесь обнаруживается генетическая связь карамзинизма с сентиментализмом и одновременно одно из его существеннейших отличий как от сентиментализма, так и от романтизма. Карамзинистское «точное» слово, равно как и точная, ясная по своей логической структуре поэтическая мысль — это основополагающий стилистический принцип поэтики французского классицизма, а отнюдь не сентименталистской и тем более не романтической.
Но из этого не следует, что карамзинисты были классиками и антагонистами двух других направлений. Ни одно из них в русской литературе тогда в чистом виде или уже, или ещё не существовало и тем самым не могло полностью совместиться с её тенденциями. Поэтому и карамзинисты, и шишковисты находили в каждом из общеевропейских литературных направлений нечто «своё».
Убеждённый литературный старовер, поклонник Ломоносова и враг сентиментализма, Шишков менее всего был классиком. Выдвинутый им в противовес карамзинистскому европеизму принцип «народности» отвечал одной из важнейших черт романтизма, но в его интерпретации — романтизма, отрицавшего западную послереволюционную действительность. Такой же характер носило и обращение Шишкова к народному просторечию как одному из источников русского поэтического красноречия. Непревзойденным же и несправедливо забытым образцом оставалась для Шишкова церковнославянская книжность, а прекраснейшим «предметом» — средневековая «мудрость». В её возрождении заключалась для Шишкова высокая национально-патриотическая функция «старого слога».
Шишков отказался видеть в «новом» литературном «слоге» орудие мысли, на чём настаивал и из чего исходил Карамзин. Именно это исходное положение Карамзина, развитое его последователями, и представлялось Шишкову самым крамольным, угрожающим традициям русской культуры. По убеждению Шишкова, русский писатель обязан «живописать» неизъяснимые красоты и высокие незыблемые истины церковнославянских речений их же собственными и лишь слегка обновленными языковыми средствами и таким способом отвращать читателя от соблазна всякого рода европейских «лжеучений». «Вместо изображения мыслей своих по принятым издревле правилам и понятиям, многие веки возраставшим и укоренившимся в умах наших, изображаем их по правилам и понятиям чуждого народа...» — в этом Шишков видел разрушительное действие на национальное самосознание «нового слога». Ещё Павел I издал специальный указ о запрещении употреблять в печати такие крамольные слова, как «общество», «гражданин», «отечество» и другие русифицированные просветительские понятия.
Конкретно-историческое содержание спора о «старом» и «новом слоге» было центральным, идеологическим процессом. В ходе дискуссии решался вопрос о национальном самоопределении русской культуры, русского общественного самосознания, а тем самым и всего строя русской жизни. Спор длился пятнадцать лет потому что «стиль литературного языка был приметой идеологической принадлежности автора», т. е. его либеральной или охранительной ориентации.
Спор Карамзина и Шишкова решила история. Ни одно из предложенных Шишковым словообразований по образцу церковнославянских лексем не привилось в русском литературном языке, в то время как большинство созданных Карамзиным и его последователями галлицизмов и неологизмов прочно вошло в него (например: культура, цивилизация, публика, энтузиазм, промышленность, развитие, переворот — в значении революция). Исторически оправдали себя и многие из фразеологических новшеств Карамзина и карамзинистов, стремившихся приблизить синтаксис русского книжного языка, отягощённый церковнославянскими конструкциями, к гибкому, логически стройному и ясному синтаксису языка французского.
Но все завоевания «нового слога» имели и свою оборотную сторону. Стремление к «тонкости» мысли и точности её словесного выражения приводило подчас к манерности, вычурности стиля, его гипертрофированной перефрастичности; «чувствительность» оборачивалась у эпигонов Карамзина приторной, бессодержательной слезливостью; резкий и не всегда оправданный разрыв с традициями «высокого» стиля древнерусской литературы и русского классицизма ограничивал возможности «нового слога» сферой выражения интимных переживаний «частного» человека и был мало приспособлен к выражению мыслей и чувств гражданственного и патриотического звучания.
В известной мере тем же страдал и прозаический слог молодого Карамзина, автора «Писем русского путешественника» и «Бедной Лизы», но повесть «Марфа Посадница» (1802), критические и исторические статьи «Вестника Европы» и особенно «История государства Российского», созданию которой Карамзин отдал последние двадцать пять лет своей жизни, написаны слогом уже не только «чувствительного» автора, но вместе и просвещённого русского гражданина и патриота. Это и заставило Пушкина признать прозу Карамзина лучшей для своего времени, однако с оговоркой — «похвала небольшая». Оговорка относится к состоянию русской прозы вообще, её отставанию от насущных потребностей современности, которым в 20—30-е гг., естественно, не отвечали и произведения Карамзина-прозаика. Новый слог многочисленных переводов Карамзина, его оригинальных сочинений, однако, значительно опережало стилистический уровень русской прозы 1800—1810-х гг. Что же касается «Истории государства Российского», то она явилась общественно значимым событием литературной жизни этих лет и крупнейшим достижением русской допушкинской прозы, будучи повествованием не только собственно историческим, но в то же время художественным и публицистическим.
Художественное задание своего труда Карамзин, по свидетельству одного из мемуаристов, определил так: «Историк должен ликовать и горевать со своим народом... он может, даже должен всё неприятное, всё позорное в истории своего народа передавать с грустью, а о том, что приносит честь, о победах, о цветущем состоянии, говорить с радостью и энтузиазмом. Только таким образом может он сделаться национальным бытописателем, чем прежде всего должен быть историк».
Карамзин-историк открыл современникам глаза на величие и драматизм исторического прошлого России. Карамзин — художник и публицист сумел найти краски для выражения гражданской скорби и патриотической гордости у русского читателя. Вот почему «История» Карамзина, несмотря на её монархическую концепцию, осуждённую поначалу некоторыми декабристами, оказала сильное воздействие на их творчество, предвосхитив существенные черты стиля гражданского романтизма.
Сверх того и главное: какова бы ни была политическая концепция Карамзина, его фундаментальный исторический труд был задуман, написан и встречен современниками как произведение остро современное и злободневное. «Настоящее бывает следствием прошедшего. Чтобы судить о первом, надо вспомнить последнее...» — такова идейная предпосылка исторического труда Карамзина и его публицистического пафоса.
В историческом прошлом Карамзин ищет ответ на актуальный политический вопрос современности: в какой форме правления нуждается Россия? И, оставаясь «в душе республиканцем», приходит к выводу: в монархическом. И это главный урок, который Карамзин извлёк из «прошедшего». Он обращён не только к «народу», но и к царствующему Александру I, и призван убедить царя в страшном и нетерпимом зле неограниченного «самовластья», превращающего монарха из «отца» своих подданных, каким он должен быть по идее, в ненавистного «тирана» и преступника. Такими и предстали в последних изданных при жизни Карамзина томах его «Истории» — 9-м, 10-м и 11-м — «великие государи всея Руси» Иван Грозный и Борис Годунов.
Гражданская смелость, с которой Карамзин дерзнул назвать вещи своими именами, художественная выразительность и негодование, с каким изображены им деяния и характеры Иоанна и царя Бориса, буквально потрясли современников, в том числе декабристов, и дали все основания Пушкину впоследствии назвать «Историю государства Российского» «не только созданием великого писателя, но и подвигом честного человека».
Девятый том «Истории государства Российского» вышел в 1821 г. Прочитав его, Рылеев не знал, «чему больше удивляться, тиранству ли Иоанна, или дарованию нашего Тацита». Другой декабрист, Штейнгель, признал, что «смелыми резкими чертами изобразивший все ужасы неограниченного самовластия и одного из великих царей наименовавший тираном», есть «феномен, небывалый в России». Следующие два тома, посвященные Борису Годунову и Смутному времени, вышли только в 1825 г. «Это злободневно, как свежая газета», — отозвался о них Пушкин за четыре месяца до декабрьского восстания, в течение которых и был создан им «Борис Годунов».
Нравственно-психологическое истолкование Карамзиным исторических характеров и деяний, особенно в последних томах «Истории», приближало её к романтическому жанру исторического романа, под влиянием Вальтера Скотта широко распространившегося в русской литературе 1830-х гг., и подготовило почву для этого влияния. И не только Пушкин, но и Белинский полагал, что «История государства Российского» «навсегда останется великим памятником в истории русской литературы вообще и в истории литературы русской истории».
Истинными соратниками и продолжателями Карамзина — создателя «нового слога» русской художественной и исторической прозы — явились не прозаики 1800—1810-х гг., а заявившие о себе тогда молодые поэты: Жуковский, Батюшков, Вяземский и другие воинствующие карамзинисты, к которым примыкал и молодой Пушкин.
Прочитав в 1822 г. «Шильонского узника» Байрона в переводе Жуковского, Пушкин заметил: «Должно быть Байроном, чтоб выразить с столь страшной истиной первые признаки сумасшествия, а Жуковским, чтоб это перевыразить».
Очень точный термин перевыразить. Перевести «Шильонского узника» мог каждый русский поэт, владеющий английским языком, а перевыразить — только Жуковский. Переведённое произведение остаётся принадлежностью литературы, на языке которой написан оригинал; перевыраженное же становится вместе с тем достоянием той литературы, на язык которой оно переведено. Применительно к проблеме «слога» это означало: для перевода и только перевода нужно знать язык оригинала не хуже собственного; перевыражение требовало обратного — знать русский язык не хуже языка оригинала.
Во времена Карамзина, Жуковского, Пушкина «знать» русский язык значило самостоятельно, творчески открыть и сообщить ему возможности, равные по своей выразительности языку оригинала. Актуальностью этой задачи для русской поэзии 1800—1810-х гг. обусловливается особое место и значение широко в ней распространённых, почти обязательных для каждого поэта переводов, часто принимавших форму открытого творческого соревнования. Так, например, элегию Мильвуа «La chute des feuilles» («Падение листьев») перевели, и каждый по-своему, шесть поэтов, в их числе Батюшков и Баратынский. Её отзвук слышен в лирических раздумьях Ленского перед дуэлью. И каждый такой перевод или отзвук, будучи «вольным» по отношению к иноязычному оригиналу, представляет собой новое слово русской поэзии. Но до этого таким же новым словом русской художественной прозы были высоко ценимые современниками карамзинские переводы французских сентиментальных повестей. Из восемнадцати, в общей сложности, томов сочинений Карамзина (1834—1835) девять занимают переводы.
В стихотворных переводах-перевыражениях оттачивалось стилистическое мастерство русских поэтов 1800—1810-х гг., обогащалась европейская культура. Первое место в этом исторически необходимом процессе принадлежит Жуковскому. Недаром литературную известность ему принесла элегия «Сельское кладбище» — так называемый вольный, вернее сказать — русифицированный перевод одноимённой элегии английского поэта-сентименталиста Грея. Но этот вольный перевод отмечен характерными чертами творческой личности Жуковского. В силу этого он и прозвучал в своё время как новое слово оригинальной русской поэзии.
Большинство из самых известных и популярных у современников стихотворений Жуковского 1800—1820-х гг. являются такими же переводами-перевыражениями иностранных поэтических образцов. Но в стилистическом отношении ничем не отличаются от оригинальных стихотворений Жуковского.
Сделанное Жуковским и другими карамзинистами для культуры русского поэтического языка значительно превышает достигнутое Карамзиным — реформатором языка русской прозы. «Новый слог» прозы Карамзина, переводной и оригинальной, остаётся в пределах просветительской и преимущественно французской культуры литературной мысли. «Новый слог» поэзии Жуковского богаче и гибче по своим возможностям, психологическим оттенкам. Он свободен от национальных и культурно-исторических ограничений, универсален, способен к перевыражению любых образцов мировой поэзии, начиная от античных и кончая поэтическими произведениями английских, немецких и французских романтиков.
В поэзии Жуковского выражена идейно-стилевая тенденция карамзинского периода русской литературы, подготовившая почву для «всемирности» Пушкина и обрётшая в его творчестве качество народности, т.е. национальной выразительности, к чему и была устремлена.
Однако «новый слог» Карамзина и его последователей был недостаточен для решения задачи двуязычия русского образованного общества. Альтернативой карамзинистскому пути явилось народное просторечие басен Крылова и дворянское просторечие комедии Грибоедова «Горе от ума». Но обе формы просторечий тоже оказались ограничены возможностями сатирических жанров, единственных в русской литературы XVIII — начала XIX в., допускавших употребление «низкого» просторечного слога в качестве средства (а отчасти и предмета) осмеяния отрицательных сторон национального бытия. Это составляло основу сатирических жанров, начиная от сатир Кантемира и кончая комедиями Фонвизина. Тем самым просторечие как таковое не принадлежит к числу стилистических новшеств басен Крылова и комедии Грибоедова, но уже не воспринимается в них как нарочито «низкий» слог.
То, что именуется реализмом и народностью басенного творчества Крылова и «Горя от ума», остаётся ещё на уровне речевого реализма, суть которого в стилистически дифференцированном выражении различных социальных оттенков, как отрицательных, так и положительных, современного состояния русского «ума» и характера, их национальной специфики.
Дворянское просторечие комедии Грибоедова обличает «полупросвещение» служилого дворянства, которое далеко не полностью утратило такие свойства русского «ума», как сметливость, ироническая острота, практическая хватка и др. К примеру, чиновно-барское просторечие Фамусова не менее хлёстко-афористично, чем саркастические реплики и монологи Чацкого, и тяготеет к синтаксическому строю народной пословицы и поговорки. Однако единственной актуальной ценностью национального сознания, противостоящего дворянской «полупросвещённости», оказывается в комедии осмеяние той же «полупросвещенности» и всех её последствий. Это выражено в одном из монологов Чацкого:
Хоть есть охотники поподличать везде,/Да нынче смех страшит и держит стыд в узде...
В основном и главном слог, а отчасти и «смех» «Горя от ума» восходит к басням Крылова, народное просторечие которых — общая стилевая норма сатирического изображения. Это и отличает басни Крылова от абстрактной морали и светской «разговорности» басен Дмитриева, а также и от стилистического эклектизма сатирических басен («притч») Сумарокова, комизм которых строится на контрастном сочетании нарочито «низких» лексем (вошь, бабы, мужики, гады и т. п.) с традиционными оборотами и штампами «высокого» лиро-эпического слога.
Таким образом, суть объективного соотношения карамзинистского, сугубо лирического, психологизированного стиля Жуковского и поэтов его школы с бытовым просторечием комедийно-сатирического стиля Крылова и Грибоедова сводится к тому, что первый устремлён и приспособлен к выражению внутреннего мира «просвещённой» личности, а второй — к обличению общественно-нравственных пороков национального бытия и выражению в самом их обличении структуры и ценностей национального сознания.
Изначальное тяготение Пушкина к синтезу этих противоположных, но дополняющих одна другую идейно-стилистических тенденций русской поэзии 1800—1810-х гг. во многом определило реалистические возможности его романтического творчества и жанрово-стилистические формы их самоопределения в «Евгении Онегине» и «Борисе Годунове».
***
Романтизм оформляется в русской литературе не ранее второй половины 10-х гг. К этому времени в России сложилась общественно-политическая ситуация, во многом сходная со странами Западной Европы.
В России наступает реакция: учреждены военные поселения, усилена цензура, запрет обсуждать в печати положение крепостных крестьян, начались гонения на университетскую науку. Отечественная война 1812 г. вызвала подъём русского национально-освободительного сознания. Народ, армия, общество, гордые только что одержанной победой над завоевателем Европы, были оскорблены крепостническим «самовластьем». Антикрепостнические настроения народно-солдатских масс и передовых военных кругов дворянского общества усиливаются, их подъём приводит к появлению сначала полулегальных, потом конспиративных дворянских объединений и формируется идеология дворянского либерализма. Оппозиционность правительству возрастает, в то же время проникается пессимизмом, вызванным разочарованием в возможности каких бы то ни было уступок правительства антикрепостническому общественному мнению. Такова одна из национальных предпосылок возникновения русского романтизма и его особенностей.
Аналогичные процессы протекают в конце 1810-х — начале 1820-х гг. на Западе (национально-освободительная борьба, организация сообществ итальянских и французских карбонариев, деятельность немецкого Тугенбунда, революция 1820 г. в Испании, греческое восстание против турецкого владычества). Наиболее глубокое и цельное художественное отражение эта трагическая ситуация получила в творчестве Байрона, в бескомпромиссном свободолюбии и философском пессимизме его лиро-эпического героя. Байрон становится властителем дум первого поколения русских романтиков, Пушкина и декабристов, вступивших в литературу на рубеже 1810-х и 1820-х гг. Они, охваченные романтическими веяниями, всё же оставались верны идеалам просветителей. Поэтому гражданский романтизм раннего Пушкина и декабристов сочетается с гражданско-патриотическими традициями «высокого» стиля русского классицизма. Будучи «поэзией чувства», «жизни сердца», романтическое творчество декабристов и Пушкина преддекабрьских лет становится поэзией революционно-гражданских мыслей и чувств. В таком аспекте переосмысляется русскими романтиками-декабристами идейно-эстетическая и психологическая структура байронического протестующего героя, обречённого на скитальчество и духовное одиночество. Лиро-эпический герой поэтов-декабристов наследует от байронического героя энергию свободолюбивой души, но свободен от трагического разочарования и скепсиса. Он не одинок, его единомышленники, как и он, «отчизны верные сыны».
Эти черты и образуют основную, элегическую тональность другого течения русского романтизма 1810—1820-х гг.: романтизма Жуковского и молодых поэтов его школы, крупнейшим из которых был Баратынский. Обычно это течение в отличие от декабристского, революционного романтизма именуется «пассивным», «либеральным».
Политическое расхождение между двумя течениями русского романтизма преддекабристской эпохи препятствовало самоопределению его общей романтической программы. К русскому романтизму данной эпохи применимы слова Виктора Гюго, по его определению, «воинствующая сторона» есть «либерализм в литературе», «литературная свобода — дочь свободы политической». «Свобода искусства, свобода общества — вот та двойная цель, к которой должны стремиться все последовательные и логически мыслящие умы...».
Так думали и русские романтики, не только декабристы, но и Жуковский, Батюшков, Баратынский и другие поэты. Однако Жуковский в отличие от декабристов был более убеждён, что верный путь к политической свободе – постепенное просвещение и гражданское воспитание русского общества и правительства, включая самого монарха. Политическим идеалом Жуковского, как и Карамзина, остаётся «просвещённый абсолютизм». Жуковский исполнял свои обязанности воспитателя и учителя вел. кн. Александра Николаевича, будущего Александра II. Современники хорошо его понимали. В сентябре 1824 г. А. А. Дельвиг пишет Пушкину: «Жуковский, я думаю, [уже] погиб невозвратно для поэзии... Как обвинять его! Он исполнен великой идеи: образовать, может быть, царя. Польза и слава народа русского утешает несказанно сердце его».
Жуковскому и поэтам его школы, прежде всего Батюшкову, принадлежит не меньшее место, чем гражданской поэзии декабристов. Продолжая начатое Карамзиным-прозаиком, основоположником «нового слога», автором первых в русской литературе опытов психологической прозы («Моя исповедь», 1802; «Чувствительный и холодный», 1803; «Рыцарь нашего времени», 1803), Жуковский первым из русских поэтов создал поэтический стиль самовыражения романтической личности, тончайших эмоциональных оттенков и состояний её внутреннего мира, субъективных, но психологически реальных и до того не имевших в русском поэтическом языке средств для своего выражения.
Отойдя от канона предметного рационального слова, Жуковский создал стиль («слог») точной и богатой эмоциональной выразительности, следуя карамзинскому принципу отыскивать «новый смысл» и «новые связи» «старых слов», превращая их привычные значения в сложные многозначные метафоры — символы текущих состояний и размышлений индивидуализированного человеческого характера. У Жуковского и его последователей — это характер романтической личности, не приемлющей социальную действительность и бессильной бороться с её злом, но духовно от неё независимой, неизменно тоскующей по заключённому в собственной душе идеалу добра и красоты и прекрасной своей непримиримостью со злом. Одновременно большой вклад в создание психологизированного и индивидуализированного поэтического стиля внёс К.Н. Батюшков. И этим определяется его место в истории русской поэзии.
Оба течения русского романтизма 1800—1820-х гг. подвергались нападкам со стороны литературных «староверов», приверженцев классицизма. Русский романтизм гражданского, декабристского толка не только боролся с классицизмом, но и во многом с ним совпадал – в высоком патриотическом звучании. В этом смысле, т.е. по стилистической фактуре своего творчества, Катенин, Кюхельбекер, Рылеев, Грибоедов были одновременно и романтиками, и классиками. Оба романтических течения боролись с крепостнической идеологией, и нашли художественный синтез в преддекабрьском творчестве Пушкина. Поэтому оно и считалось вершиной русского романтизма 1800—1820-х гг., причём такой, с которой поэту открылась перспектива уже реалистического осмысления действительности, как русской, так и западноевропейской.
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Александр Николаевич Радищев (1749—1802) | | | Литературный процесс 1800—1810-х гг. Проза |
Дата добавления: 2014-05-03; просмотров: 495; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!